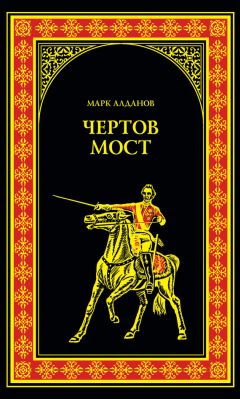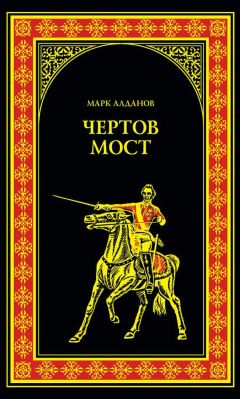Дальше Штааль не успел прочесть. Собака вдруг снова бешено залаяла; старый рабочий заглянул в дверь и бросил шепотом одно слово: «Везут». Штааль выбежал из сторожки и остановился как вкопанный.
По протоптанной дорожке бесшумно продвигались три телеги. На телегах стояли грязные ящики из досок. За передней телегой шло молча человек десять. Изможденная, бледная женщина держалась рукой за телегу. На эту шатающуюся женщину смотрели странно соседи. Телеги шагом прошли по траве мимо сторожки. Штааль продолжал стоять как вкопанный в землю. На цепи рвалась и выла черная собака. Огромная нормандская лошадь сбоку на нее покосилась. Лошадь захрапела и слегка заржала у поворота. Сторож кладбища прикрикнул и замахнулся на собаку. Черная собака взвизгнула и сразу перестала лаять. За оборвавшимся лаем вдруг наступила тишина могилы.
Штааль сделал усилие и дошел до поворота. Оттуда пахнуло ветерком; запах падали стал нестерпимым.
В нескольких шагах от поворота, в углу грязной кирпичной стены небольшой участок земли был отхвачен низенькой оградой из черных перекладин на столбах.
Первая телега подошла к ограде. Две другие остались у сторожки. С них слезли люди. Старший могильщик соскочил с переднего большого ящика и знаком распорядился снять этот ящик.
Штаалю надолго запомнился в гробовой тишине легкий хлест хвоста лошади, сгонявшей с себя мух. Кучка людей поднялась на цыпочки позади гробовщиков. Старый рабочий снял шапку. Все, кроме могильщиков, сейчас же сделали то же самое. Могильщики подняли дощатую крышку. Любопытные разочарованно отступили назад. В большом ящике была известь.
Старший гробовщик недовольно оглянулся на зрителей и сказал с насмешкой:
— Вам кого надо? Робеспьера? Сейчас увидите. Подайте им Робеспьера, вот он!
Могильщик стукнул палкой в передний ящик поменьше. Зрители снова замерли. Слышно было медленное дыхание женщины. Ящик был невысокий, дощатый и странно короткий. Вдруг женщина как-то негромко всхлипнула, и легкий, чуть слышный стон пронесся по кучке народа: из узкой щели между нижними досками ящика густыми, вытягивающимися каплями просачивалась кровь.
Штааль слышал хлест хвоста лошади, стук капель дождя, удары собственного сердца, но скрипа снимаемой с ящика крышки он не слыхал.
Старый рабочий, стоявший ближе других, быстро наклонился над открытым гробом, замер и затем отшатнулся с подавленным криком. Штааль, затаив дыхание, заложив руки назад и выставив вперед левую ногу с трясущимся коленом, тоже быстро наклонился над ящиком, как бы боясь в него упасть.
«Что такое?.. Что это?.. Где он?.. Где его голова?..» — проскользнуло в цепенеющем уме Штааля.
В ящике лежал Робеспьер. Но в первую секунду Штааль его не увидел. На том месте (в конце ящика), над которым он наклонился, было что-то без облика: кровавый обрубок с торчащей костью. В то же мгновенье Штааль понял.
Голова Робеспьера лежала между раздвинутыми полукругом ногами приблизительно посредине ящика. На фиолетовом шелке кафтана она выделялась восковым пятном, густо залитым кровью. К рыжим волосам кое-где присохла белая пудра. Кафтан был изорван, и худое тщедушное тело виднелось из-под рубахи. Синий кусочек стекла криво повис сбоку от носа. Другой глаз, не прикрытый разбившимися очками, казался тоже стеклянным. Но что-то в нем сохранилось живое, и оно делало его страшнее всего остального, страшнее даже ног, раздвинутых точно для пляски. Это ужас проскользнул в остановившемся зрачке в ту последнюю секунду, когда внизу, под собой, уже под ножом, Робеспьер увидел в корзине палача отрубленные головы друзей.
Гробовщик с насмешкой оглянул застывших зевак и, перешагнув через перекладины, стал быстро разворачивать лопатой мокрую, густую, черную землю с белыми прослойками извести. Кто-то шепнул (все услышали), будто в этой яме похоронен король. Снова легкий стон пронесся в кучке народа… «Не может быть!.. Нет, не здесь…» — шепнул кто-то другой. Один из могильщиков мрачно сказал вполголоса:
— Много тут лежит народа… Всех не упомнишь.
От земли, которую бросал могильщик лопатой в сторону, шел ужасный запах. На нее тотчас садились мухи, те же, странные: темно-синие, металлические, неторопливые.
— Глубже надо рыть, — сказал вполголоса сторож кладбища. — Вам горя мало, а мне с ними жить здесь. Извести мало кладете…
Старший могильщик покосился на сторожа.
— Давай больше денег, будем класть больше извести, — ответил он сердито, перешагнув назад через черную перекладину. — Нам на всю компанию выдали 193 ливра, а их двадцать два человека. Не очень раскутишься на известь… Ну, кидай.
Он опустил руку в ящик и вытащил голову, держа ее в вытянутой руке. Послышался мягкий звук удара. Почти беззвучно вскрикнула женщина.
«Неужто этот ров, где вместе лежат они все, этот ров, облепленный трупными мухами, этот ров, из которого несется нестерпимый запах падали, неужели это и есть Великая Французская Революция? Не может быть!..»
Штааль угрюмо возвращался пешком домой на левый берег Сены. Он чувствовал себя усталым и разбитым. Ему казалось, что последняя неделя его состарила.
Он твердо решил в ближайшие дни во что бы то ни стало покинуть Францию. Самые обыкновенные принадлежности русской жизни, кипящий самовар, русская баня, снег и сани, черный хлеб, даже окна с двойными рамами, — имели теперь в глазах Штааля неизъяснимую прелесть; при мысли о том, что он скоро увидит все это и отдохнет душой в спокойной стране, у него слезы навертывались на глаза.
В мыслях у молодого человека была тяжесть и путаница.
«Я возмущаюсь ими, — думал Штааль. — Кто же это они? Французы? Точно англичане, немцы или мы лучше? Да, я научился за границей любить родину истинной любовью (прежде я только говорил о любви к ней), я предпочитаю ее всем другим странам мира и за уголок парка над Днепром, в имении Семена Гавриловича, отдам все красоты, весь блеск Европы. Однако французы справедливо почитаются первым народом мира. Город этот умственный центр земли, и тому немногому, что я знаю, я, как все, научился по французским книгам. Так кто же они, кем я возмущаюсь? Или был прав Пьер Ламор, и эти люди вернулись к натуральному состоянию?»
Штааль остановился и вдохнул в себя воздух. Дождь давно прошел. Солнце закатывалось, наступал светлый, ясный вечер. Серебряная Башня Palais de Justice отсвечивалась в Сене, перебрасывая тень верхушки на правый берег реки. У этой башни находилась тюрьма Консьержери. Перед ней толпился народ. И тюрьма, и толпа теперь были почти одинаково противны Штаалю. Он ускорил шаги. Слева перед ним вдруг открылась освещенная последними лучами солнца серая громада Notre Dame de Paris.
— Вот это церковь! — сказал вслух Штааль. Он точно впервые увидел тысячелетний собор. Каменное чудо поразило его душу. Штааль долго смотрел на темную громаду, сбоку, со стороны набережной левого берега; затем вернулся назад и медленно пошел вдоль портала, не сводя с него глаз. На углу rue du Cloître ci-devant Notre Dame, у двери, ведущей на лестницу башен, сидела на тумбе дряхлая нищая старуха. Шамкая беззубым ртом, она бормотала дребезжащим голосом какую-то песенку. Лицо и платье древней старухи были одинакового серого цвета, цвета камней церкви. Штаалю показалось, будто старуха — часть Собора Парижской Богоматери. «Что поет эта ведьма?» — подумал он и остановился послушать. Дребезжащий голос бормотал давным-давно заученные слова:
Nous sommes homines comme ils sont,
Tels membres avons comme ils ont,
Et tout aussi grands corps avons,
Et tout autant souffrfr pouvons.
Ne nous faut que coeur seulement
Allions-nous par serment,
Nos biens et nous défendons,
Et tous ensemble nous tenons…[227]
Штааль, плохо разобравший песню, протянул нищей ассигнацию. Старуха вскинула на него глазами, замотала головой, перестала петь и спрятала деньги в чулок. Затем снова поспешно взглянула на молодого человека и опять послышалось дребезжание.
«Эта женщина может так петь сто лет», — подумал Штааль, дал нищей еще пол-ливра и повернулся.
— Спасибо, добрый господин, — прошамкала старуха. — Да пошлет вам счастье Матерь Божья, добрый господин. Сюда, сюда, вход здесь, добрый господин…
«Да в самом деле, здесь вход на башни. Уж не подняться ли на верхушку? — сказал себе Штааль. — Немного поздно, правда, но погода ясная… В воздухе Парижа видишь вдвое дальше».
Штааль взглянул вверх, прикрывая глаза ладонью. Он боялся высоты. Мысленно представив себя на вершине башни («Верно, нет перил, или низкие»), он вздрогнул я замотал головой. Тотчас устыдившись нелепого страха, Штааль вошел в боковую дверь. На него пахнуло сырым воздухом. Солнце исчезло. Камни надвинулись и все закрыли от Штааля.
Лестница была узкая, винтовая, с маленькими, грубыми ступеньками, расширяющимися к одному краю. Штааль быстро поднялся на несколько полукругов винта и остановился у узкой длинной щели, которая служила окном. Сквозь эту глубокую щель был виден только горизонт. Заглянуть вниз было невозможно. На горизонте лилось красное пламя. «Теперь упасть еще ничего, не убьешься», — подумал Штааль и пошел быстро дальше. Неровные темно-серые прямоугольные плиты стен то светлели при приближении к новому окну, то становились почти черными. По дрожанию своих коленей Штааль чувствовал, что поднялся высоко. Он инстинктивно взялся рукой за шедший вдоль стены тонкий железный прут перил. На площадке, где было светлее, молодой человек передохнул. «Какие люди переводили здесь дух в течение тысячи лет», — подумал он. После площадки лестница стала еще уже. Вдруг сделалось совершенно темно. Штааль почувствовал под собою пропасть. Ему стало страшно, и рука его сжалась на железном пруте. Он быстро прошел еще два полукруга, не отрывая скользящей руки от перил. Вдруг появилось солнце и пахнуло свежим воздухом. Лестница кончилась. Штааль был на галерее, у подножья правой башни. У его ног лежал Париж.