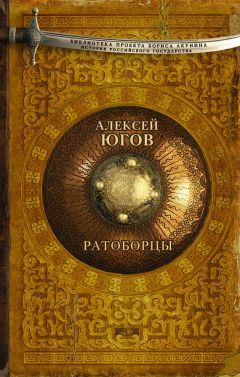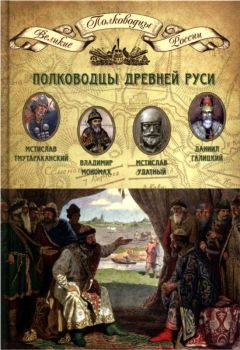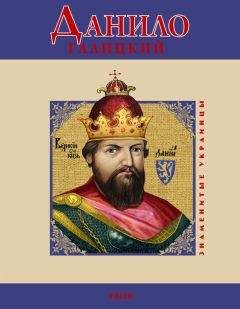— Да как же это не он? — возмущенно кричала на нее боярыня Маргарита. — А кто в церкви на нее, на княгиню-то, глазищи свои пялил? Да нет, ты уж и не говори, Марфа Кирилловна, все, все призороки от него, от Чегодаша!.. Да ведь и до чего силен! Узнать может у тебя все мысли и все дела твои выскажет — и твои, и отцовы, и дедовы!.. Он у меня Славика моего обрызгивал — от родимца!.. А только лечит он редко, уж разве за большой подарок… А больше все урочит да портит!.. Его уж и убивали посадские… Да разве таких людей убьешь!
— А кто он такой, что и убить не могут? — спросила боярыня Марфа сонным, густым голосом.
Боярыня Маргарита только усилила презрительный поджим губ и промолчала, и дождалась-таки, что надменная милостница — словно самой судьбой назначенная раздавать княжую милостыню — Марфа обратила к ней набеленное лицо раскормленной красавицы и переспросила:
— Что уж, говорю, железный он, что ли, Чегодаш твой, что и убить не могут?
Боярыня Маргарита испуганно перекрестилась и сплюнула в сторону.
— Что ты, что ты, матушка моя! — сердито проговорила она. — «Твой»!.. Нет уж, пускай он лучше твой будет!..
— Я не к тому, — лениво возразила ей Марфа.
Боярыня Маргарита, успокоясь, пояснила, переходя на полушепот:
— Не железный, а невидимый…
— Вот те на, уж и невидимый!..
— Невидимый, невидимый, коли захочет! — повторила Маргарита. — Да он, может, и ныне тут, возле нас, стоит, — произнесла она, содрогнувшись, и, словно бы ей холодно вдруг сделалось, укутала плечи персидским полушалком.
Боярыне Марфе, должно быть, зазорно стало признать, что Маргарита с попадьею правы.
— А он кто, этот Чегодаш? — еще раз спросила она. — Чем он хлеб свой добывает?
— Коневой лекарь, кровепуск!..
— Ну, вот и выходит нескладица. Стал ли бы он коновалить, когда у него этакая сила была — людей портить, людей лечить?!
Маргарита на сей раз не нашлась что ответить.
И тогда, торжествуя над нею да и над попадьею Анфисою победу, боярыня Марфа важным распевом произнесла:
— Не-ет, девоньки, нет!.. Не Чегодаш, а сушит княгинюшку огненный змий.
Не прошла и неделя с той беседы трех подружек, как месячной апрельской ночью, звонко ступая по хрупкому ледку, застеклившему лужи, шла, спускаясь под гору, где обитали ремесленники да купцы, попадья Анфиса в сопровождении мальчика-слуги.
Вот уже и кузницы прошла, раскиданные за околицею посада, словно черные шапки, а все шла и шла. В лунном свете чернела кругом земля. В засохшем, еще от осени уцелевшем былье просвистывал ветер. Месяц, большой и чистый, плыл над бором, над Клязьмой, чеканил каждую травинку, каждый кусток, каждый комочек земли, даже и от него клал длинные тени — и отблескивал в стеклышках бесчисленных льдинок луговины.
Тоску, тоску какую сочит в сердце человеку этот весенний свет месяца! Старому человеку, когда уж могила близка, луч» ше не выходить в поле в такой месяц…
А отчего молодым тоскливо?..
Смолкли и Анфиса и парубок — оба, как только вышли за околицу, под свет месяца, — и пошли промежду редко разбросанных кузниц.
А вот и черное гнездовье Чегодаша!
На бугре, невдалеке от кузниц, — ибо конскому лекарю где и селиться, как не возле кузницы? — и почти над самой рекой: ведь рыбак да колдун при реке обитают, — стояла, будто черный маленький острожек, со всех сторон глухим частоколом обнесенная усадьба Егора Чегодаша.
А и впрямь колдун знал, видно, слово, уж если сам Батый в тридцать восьмом году, пол-Владимира сожегши, эту усадебку обошел.
— Я им глаза отвел, татарам, — бахвалился перед кузнецами Чегодаш. — Ведь коневой мордой ко мне в стену тыкались, а двора моего не видали!.. Вы не глядите, что слово — звук: оно звук-то звук, а и на том свете достанет!..
Попадье и сопровождавшему ее тихому парубку сделалось страшно, когда они подошли и остановились у больших, с нахлобученным шатровым верхом ворот Чегодаша, собираясь постучаться.
На голубизне обветшавших тесовых полотнищ, озаренных светом полного месяца, четко чернело железное толстое кольцо.
Попадья Анфиса наднесла руку надо лбом, дабы перекреститься, как вдруг:
— Что ты тут закрестилась? — откуда-то сверху, из воздуха, послышался угрюмый окрик. — Что ты, в церкву пришла?
Попадья охнула и стала оседать, в своей шубейке колоколом, и уж у земли подхватил ее под мышки провожатый и поставил на ноги. У парня и у самого зубы накали от страха…
А меж тем тот же голос, неведомо откуда, провещал:
— Иохим! Гелловуй! Али не слышите? Стучат! Откройте!
А никто еще не стукнул. Калитка сама собою отпахнулась вовнутрь двора. Подталкиваемый попадьею, отрок ступил во двор. Нигде ни души.
— Матушка, не бойся, — сказал он Анфисе. — Иди.
Точно так же, сама собою, раскрылась пред ними и дверь в сени, и дверь в избу. Ступив через порог, попадья глянула в передний угол: на божнице было некое подобие образов, и она опять отважилась было сотворить крестное знаменье, но в этот миг из-под стола, за которым над книгою сидел Чегодаш, раздалось рычанье. Огромная черная собака, с глазами, глядящими сквозь шерсть, словно бы сквозь кустарник, с рыканьем шла на нее.
— Цимберко! — крикнул на собаку Чегодаш.
Пес повернул обратно и снова улегся под столом, возле ног хозяина.
Чегодаш меж тем все еще не отрывал глаз от книги. Он как бы продолжал вслух чтение, от которого его отвлекли:
— «Аще у кого будут волосы желты, тому журавлиные яйца мешати с вином, и будут черны…» У тебя каки волосы, попадья? — спросил он. — Желтые?.. Нет, у тебя седые. Тогда слушай: «Аще у кого волосы седы, то поймай ворона, да положи его живого в гной конский, да лежит пятнадцать ден, да изожги его, живого, на огне, да тем пеплом мажь волосы седые — будут опять черны…» Вот, — сказал он, закрыв бережно доски переплета. — Есть у твоего попа такая книга? Нету!.. Ну? — спросил он испытующе и глумливо. — Хворает ваша княгиня? Хворает! — ответил он сам. — Хворает и не перестанет хворать, доколе я не сыму с нее!..
«Он, он!..» — прозвучало в сердце Анфисы.
Чегодаш поднялся из-за стола, положил книгу на полку в переднем углу, оправил свой черный азям, пошевеливая угловатыми плечами, и вышел к попадье. Она упала ему в ноги. И в то самое время, как прикасалась лбом к грязному полу, ей подумалось: «Ох, будет мне от бати моего!.. Что же это я делаю?» Она поднялась. Егор Чегодаш, подбоченясь левой рукой, презрительно и лукаво смотрел на нее.
Попадья жалобно проголосила:
— Ой, да смилуйся ты над нами, Егорушко!.. Исцели ты нам ее, нашу звездочку ерусалимскую!
— А чего дашь? — угрюмо спросил волшбит.
Выгнав на улицу отрока и приготовляя все, что надо для ворожбы, Егор Чегодаш изредка бросал попадье отрывистое, резкое слово, требовавшее безотлагательного ответа.
— Худо живут промеж собою? — спросил он, поправляя фитилек, плававший в чашке с деревянным маслом, что стояла на угловой полке.
Попадья Анфиса замедлилась было ответить: ей казалось как-то неладно говорить здесь, перед мужиком, о супружеской жизни великого князя и молодой княгини его.
Чегодаш гневно обернулся.
— Молчишь, стервь? — обругал он супругу дворцового протопопа. — Ну и молчи! Да и убирайся отсюда!.. Ты думаешь, я для знатья спрашиваю?.. Я и без того все знаю. А тово дело требует. Без того не будет пользы!.. Я и сам вперед все тебе расскажу. Вчера ездил князь Андрей к Палашке своей в Боголюбово? — спросил он.
— Ездил, — вынуждена была согласиться Анфиса.
— Так. А велела ему княгиня Дубравка боярынь всех его… ну, одним словом, наложниц, убрать из дворца?
— Велела, — уж поистине вострепетавшая перед прозорливостью чародея, ответствовала попадья.
— Ну вот видишь, — удовлетворенно произнес Чегодаш. — А ты еще таишься!
— Не буду, отец, не буду!..
Но, как бы желая довершить свое торжество, знахарь сказал:
— Пригрозила ему княгиня, что уйдет от него к отцу, в Галич уедет?
— Ой, да правильно все… все правильно!.. — взмолилась Анфиса.
И с этого мига она уж ничего больше не скрывала от Чегодаша. А знала она отнюдь не мало, супруга придворного протоиерея и первая вестовщица во всем Владимире.
Меж тем угрюмый волшбит приготовил на столе деревянную мису с водой и стал растоплять над ней тонкий прут олова с помощью огарка восковой свечки. Над чашею поднялся пар.
Знахарь вынул из воды причудливо очерченную, бугроватую пластинку олова. Держа ее меж расставленных пальцев, он приказал попадье приблизить свечу. На стене избы появилась тень.
— Видишь? — спросил Чегодаш.
— Вижу, Егорушко, вижу…
— Тень указует, тень указует! — грозно вскричал волшбит. — Теперь представь мне на очи самое молодую княгиню.
— Батюшко! — воскликнула попадья. — Уж чего хочешь другого проси, а только не это!.. Чтобы я это — с речью к ней, когда не спрошена, — да уж лучше живую меня в землю заройте!