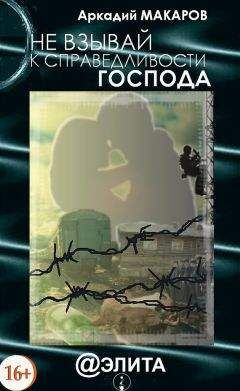– Ну, ты Яблон и даёшь! Под мужика решил косить? Ты бы ещё спел «Вставай проклятьем заклейменный!». Посмотри на себя – какой ты монтажник? Верхолаз хренов! Ты – урка! Щипач натуральный! Ага! Тебе не гаечным ключом надо работать, а в цирке у зрителей карманы стричь. – Было видно, что цыганок здорово захмелел и теперь нарывается на кулак. – Я тебя по фене учил ботать, а ты теперь блатную песню губишь, с которой правильные люди по этапам мыкались.
«Я помню тот Ваненский порт
И гул парохода угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт
В холодные, мрачные трюмы.
От качки стонали ЗеКа,
Обнявшись, как родные братья.
И только порой с языка
Срывались глухие проклятья:
Будь проклята ты Колыма,
Что названа чудной планетой!
Сойдёшь поневоле с ума.
Оттуда возврата уж нету…»
Пел цыганок с явным приблатнённым оттенком, показывая, что вот, мол, как надо «делать» песни Колымского края…
Яблон, не возражая, тихо поднялся с колен и с размаху плашмя опустил гитару на голову цыганка, отчего тот, поперхнувшись на последнем слове, клюнул песок, да так и остался лежать.
Удар был не настолько сильный, чтобы отключилось сознание, но выпитая сверх меры водка сделала нужное дело.
– Пойдём отсюда! – Яблон ухватил Кирилла за рукав и потянул к пристани, где речной трамвайчик, осипнув на третьем гудке, уже раскручивал причальный канат.
Коля Яблочкин попал в детский дом совершенно случайно, хотя нет ничего более закономерного, чем случайность.
Родившая его женщина, на второй день появления Коли на Божий свет, бесследно растворилась в людском море большого города Воронежа, знаменитого не только тем, что в нём когда-то короткое время перемогался в нужде поэт Осип Мандельштам. Давал он приют и русскому песнопевцу Алексею Кольцову, и поэту духовного звания Ивану Никитину и Андрею Платонову – тоже люди ничего себе!
Других имён Коля Яблочкин, окончив семилетку, не знал, а может быть, просто не запомнил, хотя в школе что-то говорили и о других знаменитых горожан.
Имя и броскую фамилию мальчику дала принимавшая роды акушерка, жена мастера электролампового завода, который учился, без отрыва от производства, в местном Политехническом институте и свеча Яблочкина часто упоминалась в их семейных отношениях.
Кстати, мужа акушерки звали Николаем.
Детдом – есть детдом, и кто пожалеет, погладит по русой головке на каменистой дороге жизни мальца, Колю Яблочкина?
Время летит быстро, и Коля попал в ремесленное училище, имея на руках справку о приводах в милицию и полуматерную кличку Яблон.
Где так ловко научился Коля карманному мастерству?
А тоже в детдоме. Пища скудновата, а есть хотелось всегда, вот и ныряли его пальцы по чужим карманам в автобусах и пригородных электричках.
Попадался он редко, но когда попадался, то били хорошо, поэтому он работал с народом по-станиславски – играл полудурковатого глухонемого. Кто посмеет обидеть болезного инвалида детства? То-то!
Направляющей и указующей силой в его жизни был вовсе не комсомол, а вышедший тогда на экраны художественный фильм «Высота» о храбрых монтажниках стальных конструкций, которые могут и выпить хорошо и хорошо поработать там, где только птицы да они горластые и плечистые парни в брезентовых робах и оплечь монтажных поясах.
«По какой специальности будешь учиться?» – спросили в ремеслухе.
Как по какой? Конечно по монтажу – сам гружу и сам вожу, только вожжи не держу!
Последнее, правда, добавил автор, зная привычки и характер человека по кличке Яблон, изменившего жизнь Кирюши Назарова настолько, что трудно было предположить его будущее в начале повествования.
Коля Яблочкин проходил рабочую практику на металлургическом комбинате города Липецка, где его бригада занималась монтажом стальных конструкций той самой домны, что была названа «Комсомольской». Ввиду его малого возраста и стажа на высотные работы он не допускался, но на «подхвате» работал хорошо. Когда бригаду откомандировали в Тамбов, то сердобольный бригадир дядя Лёша, взял пацана с собой – пусть парень пообвыкнется, прикипит к монтажному делу, а там, глядишь, хорошим верхолазом будет.
Зная увлечения Коли, дядя Лёша проводил с ним нравственные беседы не только языком. Рука у дяди Лёши была потяжелее кувалды. Но, как сразу отучишь человека от дурной привычки, которая навроде курева – прожить можно, а тянет до невозможности.
Выходной день, заняться нечем, деньги от командировки кончились, вот и пошёл Коля Яблочкин, по прозвищу Яблон, по городу ошиваться – может, где денежка и завалялась на его счастье!
В том, что парень купивший у мороженицы стаканчик пломбира, конечно, деревенский лох, Коля знал точно. Кто же будет тратить деньги на мороженое, когда рядом пивной ларёк открыт? Деревенские, они всегда в первую очередь, когда бывают в городе, мороженое покупают или селёдку. Этот лох до селёдки ещё не дорос, но деньги у него есть. Надо разыграть спектакль, – давно он этим не занимался и, чтобы не потерять навыки, решил подобрать, то, к чему руки сами просятся. Вот и повстречались, прошу прощенья, хрен да лапоть на вокзальной площади! А всё остальное ловкость рук ну и, конечно, система Станиславского.
Теперь вот идут по Тамбову два очковых парня, два соловья-разбойника, свистеть не свистят, но денег всё равно уже нет. Пропиты мамины деньги, профуканы!
«Эх, маманя, ты маманя!
Ты сама повадила:
придёшь поздно, придёшь рано
– по головке гладила…»
А впереди целая жизнь, и как она разложит карты, – никто не знает. Все карты лежат рубашкой вверх: где шестёрка, где козырной туз – ни одна бабка не скажет.
Чтобы не легла шестёрка – не садись за стол играть, не тот случай. Это только в сказках златокудрая фея вплетёт в твою причёску свой волосок удачи, а в жизни сам хватай её, эту самую увёртливую девицу, за пышный локон, седлай, как Конька-Горбунка, и – вперёд!
Но как ухватишься, когда рука поднялась только до стакана? Всего один день, а столько наворочено!
Кирюша против Коли Яблочкина выглядел ещё ничего – успел в кустах камыша, где лежала в счастливом беспамятстве та худосочная, по римскому обычаю выплеснуть в головокружительной карусели часть алкоголя и теперь поддерживал плечом своего путеводителя, который пытался, но у него никак не получалось спеть известную песню монтажников-верхолазов. Запала хватало только на – «Не кочегары мы, ни плотники, а мы монтажники-высотники!»
Бросать товарища в таком состоянии Кирилл Назаров никогда не будет.
Город большой и под ногами дорог много…
– Куда идти? – Кирюша освободил одно плечо и переложил товарища на другое.
– Идём туда, куда идём! – Яблон по-щенячьи встряхнулся и, указав пальцем на дорогу, заорал: – Форвертс!
Отчего, медленно двигавшаяся по асфальту машина с голубой полосой по кузову, остановилась напротив нарушителей порядка, дверка открылась и тут же, как из ларца выскочили два милиционера, упитанные и скорые на руку. Ать-два! – и парни оказались в тёмном стеснённом ящике, пропитанном табачным дымом, смрадом потных человеческих тел и глухой неизъяснимой тоской по открытому пространству.
Это только в досужем разговоре граждане сетуют: «Куда смотрит милиция?». А милиция смотрит именно туда. Вон сколько разного люду у них в ящике! Тут и бомж перекатный, и семейный тиран, не сумевший по-хорошему уговорить жену, и невезучий домушник, застрявший в тесной фрамуге окна, и мертвецки пьяный человек не знавший края, и наши подгулявшие ухари-молодцы обречённые попасть под надзорное око уголовного Права.
Покружив некоторое время по городу, «воронок» остановился у железных ворот, гавкнули стальные задвижки и – вот приятели тесные объятья закона!
На другой день от беспамятного, безмятежного сна не осталось ни малейшего следа. Молодой здоровый организм деревенского парня Кирюши споро перемог алкогольную вялость тела, когда он, открыв глаза, упёрся взглядом в зашторенное стальной решёткой высокое окно, такое высокое, что и не дотянуться, не допрыгнуть, выход один – через стальную с маленьким квадратным проёмом дверь, весь вид которой говорил, чтобы все надежды были оставлены.
Пружинисто соскочив с дощатых, затёртых нар, Кирилл бросился к двери, но она ответила только задавленным протяжным стоном.
– Эй, баклан грёбаный, не динамь! Кантуй своего корешка – и парашу на вынос! Ноздри говном забило!
Кирилл хотел что-то возмущённо сказать, но, посмотрев на говорившего, тут же подавился словом; на нарах сидел, свесив голые волосатые ноги, испещрённые татуировкой, амбал лет сорока с лицом Франкенштейна, застаревшие шрамы на его образине намекали, что ему лучше не возражать. Это был тот самый вчерашний мертвецки пьяный человек, валявшийся на дне железного ящика в милицейском воронке, но тогда он имел менее устрашающий вид.