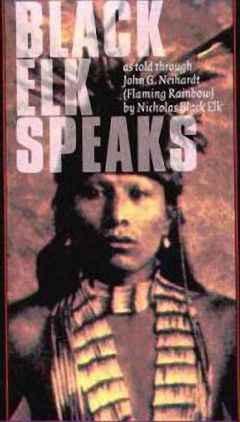— А ты напиши у себя на лбу, берестяная твоя голова: когда в половодье желтая пена идет — на землю нам бог наш Нишкепаз доброе лето шлет. Где лето доброе, там и хлеба густые, колосистые. Понял?
— Да, но…
— Понял, ай нет, горшок ты недоляпанный? Али ты способен только девок щупать? — Лаврентий, широко зевнув, искоса посмотрел в сторону Зинаиды Будулмаевой. Он явно намекал на тайную связь Филиппа с молоденькой вдовушкой.
— А ты-то много пшеницы собрал, Лаврентий Петрович? И для чего тебе много-то? Одной ногой уже в могиле стоишь, — медведем насел на старика Игнат Мазяркин. — По пене речной легко обещать богатые урожаи, тут мозгов не надо.
— Ах ты, сопляк, чего в дела сурьезные встреваешь? Видали — нашелся тоже хлебороб! — Лаврентий огрызнулся и юркнул за спину своего кряжистого сына. — Говночист барский, вот ты кто!
Игнат готов был затеять свалку, если бы не встал промеж враждующих сторон Максим Москунин:
— Хватит языки попусту чесать, смотрите лучше на реку!
— Да это же в лодке Кузьма! Вот отчаянный! — Филипп с восторгом следил за пловцом.
Вот лодка достигла края льдины, где обреченно стоял человек в черном, встала против течения реки, и речной чудак, изловчившись, прыгнул в нее. Кузьма поднял весла и снова стал грести что было силы, только уже против течения. «Похоже, попа спас на свою голову», — кольнуло в сердце Филиппа. Попов он не любил, поэтому сразу потерял интерес и к спасенному, и к спасателю. Отвернулся от реки и подошел к Зинаиде. Та вспыхнула пламенем и, опустив глаза, прошептала:
— Ночью придешь ныне, а, Филиппушка?
— А это уж какую ночку бог пошлет… Ежели темную, то жена не увидит пропажи…
Шушукающиеся между собой женщины прыснули со смеху. Но никто не обратил на них внимание, все бросились к реке, чтобы помочь вытащить на берег приближающуюся лодку.
* * *
Никита места себе нигде не находил — его тянуло на улицу, но признаться дедушке открыто боялся. Вот сейчас все дома: дедушка перед порогом насаживал на лопаты черенки, мать замешивала тесто. Мука давно кончилась, и до нового урожая придется печь хлеб из чего придется: из лебеды, березовых сережек, картофельной шелухи…
— Можно, я к батюшке схожу? — не вытерпел мальчик. — Он просил зайти, иконы почистить.
Видман промолчал, только искоса взглянул на внука. Мать же обрадовалась, похвалила:
— Ко святому делу, сынок, стремишься, молодец!
Отец Иоанн нравился Никите — читать его научил. Батюшка все знает, в разных краях бывал, раньше в Нижнем жил, а вот в прошлом году в Сеськино приехал. Никита впервые его увидел в церкви, куда он с матерью к заутрене пришел. Стояли они впереди всех, у алтаря. Батюшка подозвал Никиту к себе, сунул в руки зажженную свечку, сказал назидательно:
— Сначала, сын мой, тебе причаститься надо.
После службы батюшка опять обратился к Никите:
— Приходи ко мне домой, сынок. Там боговерованию тебя научу по-настоящему.
… В церкви батюшки Иоанна не оказалось. Никита заглянул в просвирочную, святой отец частенько наведывался туда пробовать красное вино. Навстречу мальчику темной тенью вырос незнакомый монах.
— Кто такой? — сердито спросил он.
— Да то сиротиночка, душа безвинная, — поспешил на защиту Никиты отец Иоанн. Он сидел за столом, с рассеянным видом катал меж пальцев какие-то камушки. — Садись, чадо, да послушай. А ты, Гавриил, — обратился он к монаху, — для просветления разума что-нибудь из Евангелия нам почитай.
Монах своим острым, как лезвие, взглядом пронзил Никиту, потом широко улыбнулся и сел за стол. Достал из-под полы своей рясы сверток, развязал. Там оказался большой шуршащий бумажный лист. Протянул его Иоанну, сказал сухо:
— Вот, прочти. Дороже Евангелия будет.
Отец Иоанн подвинул поближе к монаху сальную свечку и сказал:
— Со слепыми глазами какое уж чтение… Как-нибудь уж ты сам, Гавриил.
Монах стал читать так, словно прислушивался к словам, любуясь собственным красивым голосом: «Пришли времена положить конец издевательствам князей да епископов. Забыв о прощении моем, на Россию-матушку одни несчастья навлекли. Куда ни пойдешь, куда ни глянешь — целые племена и народы сиротами остаются, как обездоленные матери без детей, без любимых чад своих…»
Глаза у монаха сверкали злобным огнем, голос звучал набатом: «Князей на суд призову, пусть мое пресветлое имя царское не поганят… Я, император Александр I, всем сердцем и душою болящий за свой народ…»
— Покажи-ка сей указ царский? — не выдержав, встал со своего места отец Иоанн. Бумагу, которую протянул ему монах, он приладил возле пылающей свечки. Глаза его заскользили по написанному. Наконец он перевел дух и строго произнес: — Указ сей не царский вовсе. Это ты сам его сочинил, вот что я тебе скажу. Царские указы не такие, милый. Я их видел у архиепископа Вениамина, знаю.
— Тогда какие же они, скажи? — буркнул сникший как-то сразу монах. — Выходит, ты не веришь самому императору? Эх ты, святой отец! А еще спасителем эрзян считаешь себя. А ты разве не видишь, какую смуту инородцы поднимают? Почему ты противников Бога не коришь, не проклинаешь?
Поп погладил густую свою бороду и тихо сказал:
— Чего ты от меня хочешь, Гавриил?
— Солдат из Нижнего призови, чтоб покончить с язычниками.
— Думаешь, эрзяне тебе в спину вилы не воткнут? Подумай об этом, Гавриил.
Монах заметался по сторожке волчком, попавшим в капкан. Наконец, что-то бормоча, выбежал на улицу. Отец Иоанн встал со своего места, подошел к мальчику и, обняв его за плечи, ласковым шепотом стал учить Никиту:
— Ты гляди, чадо, с закрытым ртом ходи, помалкивай. Ты ничего не слышал здесь. Мы просто Святое Писание читали. Понял?
Никита словно и не слышал его вопроса. На его лице отражались удивление и страх. Он тихо спросил:
— Батюшка, а кто ж у нас в Сеськине главнее, ты или мужики?
Иоанн укоризненно покачал головой:
— В селе нашем, чадо, как и на всей земле нашей, главнее и важнее всех Господь Бог наш. Он на небе людей сотворил и спустил на землю, теперь ими управляет, судит и испытывает. Он наш Спаситель, Покровитель и Судья.
— Главнее даже наших эрзянских богов, да?
— Конечно, Никита.
— А вот и обманываешь, батюшка! Сильнее эрзянских богов нет никого.
Вид у батюшки стал грозный, он уже не гладил Никиту по плечам, а сердито спросил:
— Где, от кого ты слышал подобную ересь, сын мой?
— От дяди Кузьмы.
— Это он сказал тебе одному?
— Дядя Кузьма это говорил дедушке.
— А ты, сын мой, слушай, да не всем верь. Ну ладно, беги домой, у меня дела. Да смотри, помни, что я не велел тебе болтать языком.
* * *
Когда Верепаз-Всевышний на седьмом небе раздавал людям судьбы, эрзянским девушкам досталась самая плохая — без счастья и любви. После замужества их ждали тяготы семейной жизни: приставания свёкора, придирки свекрови и постоянный изнурительный труд. Сноха чаще всего была основным работником в мужнином семействе. Для этого порой и замуж брали. Хорошо еще, если муж добрым да покладистым окажется… А если сопляк малолетний или старик придурковатый? Хотя и это еще полбеды. Беда — когда свекор проходу не дает, при каждом удобном случае норовит завалить в укромном местечке. А кому пожалуешься? Муж и свекровь тебя же обвинят. Только и остается терпеть.
Редко, очень редко встречается такая любовь, которую водой не залить, льном-долгунцом не связать. Такая любовь до самой глубокой старости белой лебедицей по небу летает.
Будулмаевой Зинаиде не повезло. Ее выдали замуж рано, в пятнадцать лет. Совсем еще юной была. Отец не спросил даже, хочет ли Зинаида выходить за того, кого ни разу в глаза не видывала. Явились однажды к ним в дом сватья, поели-попили и по рукам ударили. На свадьбе Зинаида боялась взглянуть на сидящего рядом жениха, во время обряда говорила заученные слова, трепеща от страха перед предстоящим.
Чужой мужчина, так внезапно ставший ее хозяином, пугал до темноты в глазах. И ночью, ложась в постель, голову свою под подушку совала, сжав зубы, ждала, что будет дальше. Такие уж мордовские обычаи: кого выбрали в мужья тебе, с тем и живи всю жизнь, согласно пословице: обвенчает поп — развенчает гроб.
От таких пут никто из женщин и не старался освободиться. Попробуй только какие-нибудь вольности, живо кнут мужа или свекра по спине пройдется. А у Зинаиды свекор к тому же цыганом был. Старый Будулай лет двадцать назад остановился в Сеськине кузнецом поработать. Зашел к одной несчастной вдовушке да так и остался, пучеглазый черт. Муженек Зинаиды, его сын, был тоже черен лицом, кольцами завитые кудри его свисали до самых плеч. Но характером крут, любить не умел. Натерпелась несмышленая молодка от него. Погиб он при заготовке дров.
В скором времени и родители Зинаиды и старый свекор на тот свет отправились. Маялась, маялась Зинаида одна да и взяла к себе жить свекровь. Теперь они как две кукушки живут — ни яиц от них, ни цыплят. Кукуют в пустом доме. А тут, откуда ни возьмись, напала на женщину любовь нечаянная. Присушил ее Филипп Савельев, сельский кузнец. Да так, что дня без него прожить не мыслит. Но доставался ей Филипп только по ночам. И по утрам от горячих поцелуев губы Зинаиды алели, как пышные маки на огороде. Провожая милого, жаркая вдовушка горячо шептала: «Филиппушка, завтра придешь? Любый мой! Останься, успеешь еще…» — «Боюсь, проснется старая стерва. Пора мне», — отвечал Филипп, снимая с шеи руки Зинаиды. Она опять обнимала. Он снова снимал их, пьянея от жарких слов.