Лея оказалась в том же классе, что и Руди Хагедорн. Руди попал в гимназию не потому, что был пронырой, благодаря аптекарю Залигеру, который великодушно установил ему ренту на все время учения в размере пятнадцати марок ежемесячно в знак признательности за спасенье своего сына Армина. Плата за учение составляла двадцать марок в месяц. Но Руди имел скидку в десять марок за хорошие отметки и еще потому, что доктор Фюслер был к нему расположен. Таким образом, пять марок оставалось у него на книги, писчебумажные принадлежности, подметки и на проезд. Это было чертовски мало. А мать еще, случалось, вздыхала, что он не платит ей за харчи. Он был «здешний» и потому жил не в интернате, а дома, значит, дома он и столовался; утроба же у него была ненасытная. Правда, матери очень хотелось, чтобы ее старший сын стал «большим начальником», но она никак не могла смириться с мыслью, что парень сидит у них на шее год спустя после конфирмации и, видно, просидит еще долгонько.
Суровое представление, укоренившееся в рабочих семьях, — кончил школу, кончай с домом, — прочно засело и в ней. Школу кончают в четырнадцать лет, и тут уж либо не садись за родительский стол, либо плати за v харчи.
Пауль Хагедорн, отец Руди, хвалился всем и каждому: «У меня старший учится, а это кой-чего да стоит. Да уж очень хочется, чтобы дети жили не так, как мы, грешные. Лучше мне одну воду лакать, чем не дать ему доучиться». Рабочий городского коммунального управления, папаша Хагедорн все еще много работал. Мать была надомница, она делала бахрому для абажуров, вязала шапки, прикрепляла абажуры к каркасам. За это платили гроши. А четыре детских рта нуждались в пище. У нее на руках были Руди, Кэте, Кристоф и Бербель. По профессии отец был чулочник, долгое время работал в фирме Хенель и выполнял там обязанности профсоюзного казначея. Затем началась массовая безработица. Пособия его вскоре лишили, и, чтобы снова приобрести право на таковое, он время от времени брался за случайные городские работы. Да так и остался рабочим магистрата. Он сумел сделаться там необходимым, безотказно ходил чинить водомеры, дробил камни для дорожных покрытий, заменял курьера, а при случае и могильщика. С такими мелочами он не считался. Только безработным больше быть не хотел. Без работы это был беспомощный, отчаявшийся, жадный до водки человек. Теперь отец от подсобного рабочего при магистрате поднялся до помощника дорожного смотрителя. Но нацистскую похлебку его душа никак не принимала. Когда его коллеги говорили о политике, он отмалчивался. Он добросовестно исполнял свои обязанности, аккуратно платил взносы в Рабочий фронт и стал членом Имперского союза многодетных. В поощрение честному служаке за скромную арендную плату предоставили домишко на окраине города с двором и садиком. Мать, которая никак не могла свыкнуться с нацистами и свое благо усматривала в посещении церкви, тоже радовалась новому жилью.
Руди очень любил свою мать и старался как можно тише вести себя в гитлерюгенде. А чтобы не слизывать масло с хлеба у сестер и брата, четыре раза в неделю в послеобеденное время работал «мальчиком за все» в «Мастерской но ремонту автомобилей, мотоциклов и велосипедов Альберта Вюншмана младшего». За это ему платили три марки в неделю. Две с половиной он отдавал матери, которая охотно бы сберегла их для него, да только никак у нее это не получалось. Пятьдесят пфеннигов, а иногда еще и несколько грошей, полученных на чай, оставались ему. С того времени как в школе появилась Лея, его хозяйственные расходы сильно возросли. Он тайком от всех покупал красивую почтовую бумагу, на которой в стихах или в торжественно прозаической форме силился выразить свои пламенные восторги. Да, он втрескался в Лею заодно с доброй дюжиной других мальчишек. Имени своего он ей не открывал. И эпистолы подписывал вычурным оборотом: «Ваш нелицеприятный друг Гиперион, который откроется вам, когда приспеет время». Но каждый ее взгляд, каждое безразличное слово, сказанное ею, представлялось ему новым связующим звеном между ними. Он был убежден, что она знает, кто скрывается под именем «Гиперион», и молчаливо одобряет его сдержанность, столь отличную от назойливости других. Как мог он догадаться, что и другие скромники присваивали себе имя этого классического возлюбленного. Ведь ни для кого не было тайной, до какой степени их ректор, а он был еще и дядюшкой Леи, привержен к Гёльдерлинову Гипериону. Как знать, может, эти письма попадутся ему на глаза и он посоветует своей дивно прекрасной племяннице отдать предпочтение Гипериону. Ах, как редко в мировой истории столь много любовной поэзии изливалось за столь короткое время, на столь тесном пространстве и в столь полнейшей невинности! А Лея, вызвавшая всю эту бурю, оставалась всех холоднее. Гимназисты прозвали ее «Вселенная» — непостижимо чарующее и в то же время рационалистическое прозванье, выражавшее самые высокие из их чувств: тоску по неведомым далям, печаль, разлитую в мире, их окружающем. Ибо, как ни близка вдруг стала таинственная даль, она исчезала, стоило только захотеть к ней приблизиться, ее нельзя было обнять руками, нельзя было губами притронуться к ней. А таких девчушек спокон веков ищут влюбленные романтики, испытывая при этом приятнейшие страдания. Там, где по рейффенбергской мостовой ступала нога Леи, расцветали голубые цветы, и каждый, завидев голубой цветок, бормотал: «Вселенную увидеть и умереть…»
Но в следующем году после троицы вдруг грянул гром среди ясного неба, и почти все рыцари голубого цветка внезапно сложили свое оружие. Шли дни, а Лея не появлялась в классе. В это же самое время ее приемный отец и дядя был смещен с должности ректора и, несмотря на отличное здоровье, прежде времени уволен в отставку с половинной пенсией. Однажды ночью, захватив с собой Лого, он уехал лечиться в Карлсбад.
Место Фюслера занял бывший учитель гимнастики, ныне крупный партийный деятель. Этот атлетически сложенный болван, стоя в актовом зале на украшенной свастикой кафедре, объявил всем собранным здесь учителям и школьникам причины удаления прежнего ректора и его приемной дочки. Со вздувшимися от гнева жилами новый ректор — или «Муссолини», как его прозвали озорные школяры, — огласил страшную весть: Лея Фюслер (он называл ее «фюслеровская девчонка») полуеврейка, дочь еврейского интеллигента по фамилии ван Буден, который окопался в Англии и, сидя там, лает на национал-социалистскую империю, как нес на луну. Господин же Фюслер старался замолчать этот хорошо известный ему факт.
После этого сообщения в передних рядах, где сидели фланкировавшие эстраду учителя, раздались возгласы возмущения, тотчас же подхваченные школьниками и смолкшие лишь по знаку оратора.
— До нас, кроме того, дошел слух, отщелкивал щелкун с высокой кафедры, которая стояла под фреской, изображавшей «Кормленье пятью хлебами пяти тысяч человек на озере Генисаретском», — и, кстати сказать, через глубоко возмущенных молодых людей, что полуеврейке Фюслер было написано множество писем и стишков учениками нашей гимназии, разумеется, в неведении изложенных мною обстоятельств. Пока что, — тут голос оратора сделался громоподобен, а слова перекатывались в его разверстом рту, как осколки стекла в жестянке, — мы будем смотреть на это как на невольную ошибку, а значит, смотреть сквозь пальцы. Но завтра, друзья мои, если завтра какому-нибудь мягкотелому типу вздумается сокрушаться о своей любвишке, мы сумеем внушить ему наши понятия о крови и чести, да так, что он и своих не узнает. Негодяев в нашем рейхе клеймят каленым железом.
В это мгновенье Руди попытался встретиться взглядом со своим другом Армином Залигером. И встретился на секунду-другую. В нем он прочитал ту же ярость, то же непокорство, которые сжигали его душу. Залигер тоже писал письма Лее. И никакого секрета тут не было, все знали, кто ей пишет. Из последовавшей затем торжественной церемонии — переименования школы имени Гёте в школу имени Дитриха Экарта — Руди Хагедорн ужо почти ничего не слышал.
Под вечер Армии забежал за ним к Вюншману, и они пошли по узкой тропинке вдоль старой городской стены, заросшей кустами жасмина.
— Поверь, это не для меня, Руди. Плохим немцем я себя не считаю, за фюрера готов идти в огонь и в воду, законы касательно евреев, по-моему, правильны. Но нельзя же все валить в одну кучу. Лея, во-первых, полуеврейка, во-вторых, она отродясь не видала своего отца. Это я знаю от своего папаши, он ведь всегда был на дружеской ноге с доктором Фюслером. Существует граница, где повиновенье кончается, иначе человек станет трупом. Но все, что я сказал, — между нами. Я тебе доверился, потому что ты мой друг.
И как же Руди тогда гордился своим другом! Армии в заговоре вместе с ним, и насколько же ему теперь легче вопреки всем угрозам по-прежнему излагать Лее на тонкой красивой почтовой бумаге свои трогательно возвышенные чувства. «…B один прекрасный день, моя богиня, я предстану перед вами зрелым человеком, всеми почитаемым, человеком, который конструирует и строит автомобили, повергшие в восторг весь земной шар. Но лучший из них будет принадлежать вам! Словно в волшебном сне, мы будем мчаться с вами под сенью цветущих деревьев на юг, в Италию, к гробницам Ромео и Джульетты. Только моя любовь восторжествует не в смерти, а в жизни! Меня с вами не разделяет ничто, кроме пространства и времени. Но много ли значат время и пространство в сравнении с моей любовью? Я наберусь сил. Ждите меня, ждите, покуда я стану зрелым человеком…»
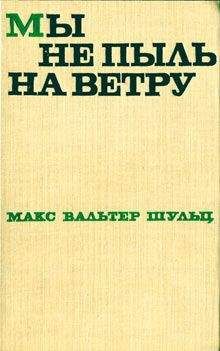
![Константин Аксаков - Вальтер Эйзенберг [Жизнь в мечте]](https://cdn.my-library.info/books/158291/158291.jpg)


