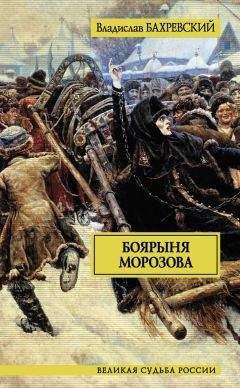Мало кто поймет, что это такое – сидеть в царях тридцать лет с годом. В России!
Жить Михаилу Федоровичу стало уж очень тяжко, но помирать нельзя. Коли в царях, помирать не ко времени. Дочь замуж не в силах выдать.
Услышал шаги, уронил руку.
– Кто?
– Твой раб, государь. Борятко Морозов. Лекарство пора пить.
Борис Иванович был дворецким у Алексея, но Михаилу Федоровичу без Бориса Ивановича совсем лихо. Чуткий человек, все знает и знает хорошо. На Бориса Ивановича оставить царство не страшно. За Алексея не страшно. Алеша уж очень молод. Когда самого-то на престол посадили, рядом такого, как Борис Иванович, не имелось. Отец был жив, но отца держали в плену, в Польше.
Лекарство принес врач, отпил глоток, дал отведать Борису Ивановичу. Дошла и до царя очередь. Полечился.
Поменяли подушку. Прохладная.
– Борис Иванович, принеси письмо графа! – С этого самого письма государь взялся именовать королевича Вольдемара графом. Он и вправду граф – 1 первого января. Дерзил бесстрашно.
Борис Иванович принес письмо.
– Читай! – повелел великий государь.
Прочитал.
Граф свою злобу в вежливые слова не изволил прятать. Я-де царского рода, а потому тебе, русский царь, не холоп! И слуги мои – мои слуги, они-де тоже тебе не холопы, царь Московский. Но хоть ты царь и называешь себя православным, а поступаешь, как неверные турки и татары. Так знай же! Свою свободу я буду отстаивать силой, хотя бы пришлось голову потерять.
– Будем отвечать-то?
– Сто раз ему все сказано, великий государь.
– Сто раз, – согласился Михаил Федорович. – Я ему в глаза говорил: «Отпустить тебя, граф, невозможно. Твой отец, его величество король Христиан, прислал тебя состоять в нашей царской воле и быть нашим сыном. Но свадьбы совершить нельзя, покуда ты останешься в своей вере». – Царь замолчал, задохнулся. – Помнишь, как он ответил?
– Помню, ваше величество. Резанул, как саблей: «Лучше я окрещусь в собственной крови».
– А мы ему Суздаль подарили…
– И Ярославль, и Ростов. Приданого за государыней царевной обещано триста тысяч рублей.
Царь смотрел в потолок.
– По порядку будем думать. Лихачева с тайным словом к графу мы посылали…
– Посылали, великий государь. Сказывал, что в Москву мчит гонец польского короля, хочет царевну Ирину сватать.
– Не напугали графа. Мне говорили, очень он смеялся Лихачеву в глаза.
– По молодости, – обронил Борис Иванович. – По молодости. Однако ж…
– По порядку пойдем, – напомнил царь. – Посол польского короля говорил с графом, что веру православную принять ему зело выгодно. Говорил, что я даю в придачу к Суздалю, к Ярославлю, к Ростову – Новгород и Псков? Говорил посол графу, что, коли будет упираться, пошлю войско на помощь Швеции против Дании, а самого его в Сибирь сошлю.
– Великий государь! Великий государь!
Борис Иванович заплакал.
– А я не плачу, – сказал Михаил Федорович. – Жить не хочу. Что теперь-то?..
– На 4 июля будет спор о вере.
– Спорили, – Царь глаза закрыл. – Пастор Матвей Фильхабер будет свое говорить, нашего не слушая. Ключарь Наседка да князь Дмитрий Далматский наше станут хвалить.
– Наше-то – от Бога! – воскликнул Борис Иванович.
– Если от Бога, значит, спорщики никудышные. Пастор дело говорил: когда царское величество заведет в своем государстве школы и академию, тогда вы узнаете, что значит быть ученым и неученым…
– Принесло их в дверь, вынесет в трубу! – в сердцах вырвалось у Бориса Ивановича.
Сказал и обомлел, но царь молчал. Собрался дворецкий с духом, глянул, а Михаил Федорович спит, все морщины на лице разгладились.
– Что-то он решил окончательное, – подумалось дворецкому.
Зеленое, нежное до сладкой слезы разлилось по земле, достигая окоемов. Окоемы-то – сказка синяя, леса нехоженые. Лес и древность – одно слово, а вот зелень лугов, счастливые зеленя полей, пережившие зиму, были уж так молоды – сама весна.
У Федосьи, забредшей в пойму, складные слова с губ слетели:
– Буду я красна, как сестрица-весна!
Засмеялась. Уж очень просто с весной породнилась. И вдруг сердце сжало, да крепко. Не лапой, не когтями, а будто – тьмой. Подняла голову. Тьма и есть. С той стороны, где солнце встает, – черная туча птиц. Воронье. Летят – не каркают, будто затаились, будто нагрянуть собирались нежданно-негаданно.
– Матушка! Родненькая! – в испуге вскрикнула Федосья.
Крестным знамением себя осенила. Вот ведь грех нечаянный. Не Бога вспомнила – начало начал, мать родную. А птицы – сетью.
– Куда же это они? Да сколько же их!
Поглядела на солнце, ресницы не смежая. Как правда на правду. Темно стало в глазах: на солнце, как и на Бога, человеку смотреть нельзя, да и невозможно.
Разум страху, однако, не поддался.
– Вороны – птицы такие же Божии, как соловьи, как зяблики. Весна! За зимой вослед летят. Дело ворон – прибраться за косматой старухой.
Ни с того ни с сего захотелось царевича увидеть. И – Господи! Как же это так! Объяснить себе не сподобилась. Чего ради понадобился наследник? Оттого, что зяблики поют? Может, те самые: один царевичев, а другой ее.
Увидела толпу всадников. За рекой. Далеко. С ловчими птицами тешились. Отчего же не Алексей? С соколами охотиться – его страсть.
Удивилась себе. В голове все еще весна, а ведь Петры и Павлы. Проводы весны.
Вспомнила поговорку: «С Петрова дня зарница хлеб зорит».
Захотелось зарниц. Пусть бы и ее, Федосью, озарили. И Дуню. И Марию Милославскую. И Аннушку-смуглянку.
А за рекой скакал всадник. Его сокол убивал в небе большую птицу. Должно быть, гуся, а может, лебедя. С кафтана всадника – а кафтан-то немецкий – сверкали алмазы. Кто как не царевич?
Федосья отвернулась от охоты. Из травы смотрел на нее синий колокольчик.
– Вызвони мое счастье!
И стояла. Звона ждала.
К празднику Верховных апостолов матушка Анисья Никитична, дворовые мастерицы и подросшая для серьезной работы Федосья, ей в мае тринадцать лет исполнилось – вышивали серебром и шелком «плащаницу». Федосья трудилась над крылом Ангела, осенявшего учеников Христа. Ученики, их было трое, полагали во гроб своего равви.
Матушка вышивала лик Богородицы со слезою.
Петры и Павлы убавляют день на час, но солнышко все равно раннее, день нескончаемо долог. Соснуть перед негасимым вечером – дело мудрое. Недаром говорят: «Ляг да усни, встань да будь здоров! Выспишься – помолодеешь!» До сумерек хватало сил мастерицам.
Наработавшись, Федосья вместе с Дуней ходили на пруд лебедей кормить.
Было видно, как на хлеб сбегаются стайки пескариков. Лебеди к еде не торопились.
Их было два. Они не плыли, а, приближаясь, словно подрастали. Царственные шеи опускали к воде без суеты, без стремления ухватить кусочек белого, сладкого хлеба поскорее.
– Я смотрю и глазами хлопаю, – призналась Дуня. – Мне чудится: будто лебеди – сон.
– Красиво. – Федосья тихонечко вздохнула. – Вот почему люди жить хотят.
– Почему? – не поняла Дуня.
– Потому что кругом нас мир Божий. Вода как зеркало. Зеркало, но живое. Небу дна нет. Небо тоже живое.
– В небе птицы живут! – сказала Дуня.
– Птицы летают по небу, а живут в глубокой глубине небесной звезды, луна и солнце.
– В высоте! – поправила сестрицу Дуня. – В высокой высоте. А еще выше – Бог…
– Рай, – согласилась Федосья.
Когда много сделано, игла и руки быстрые.
«Плащаницу» у Соковниных завершили на Давида-земляничника.
На праздник «плащаницу» выставили в домашней иконной комнате, чтоб все мастерицы могли поглядеть, как Бог дал им послужить славе Господней.
Федосья стояла с матушкой, с Дуней. «Плащаница» – строгая работа, но красота и в скорби подает надежду. Красота рождается в душе, душа – нетленная, красота – вечная.
– Матушка, ты слышишь? – спросила Федосья.
– Колокол?.. А ведь это Иван Великий… Это не к празднику звон…
Все пошли из дома, а за воротами на улице – народ.
– По ком звонят? Нынче день радости великого государя, день его рождения.
Прикатил из Большого дворца Прокопий Федорович.
– Молитесь! Царь Михаил отшел ко Господу.
Федосья убежала в сад.
Весь день небо синевой несказанной удивляло, а теперь неведомо откуда – дождь. Тихий, моросящий. Не из облака, из наволочи. Серой, гонимой ветром.
Пошла в келью.
В келье любимая икона «Достойно есть». Богородица. Милующая.
Холопы затворяли ворота, в руках бердыши, на поясах сабли. Но всего войска – четыре человека.
Молилась Федосья Господу: да примет душу благочестивого царя Михаила. И Богородице: пошли, Благодатная, Москве тишину.
Маленькой девочкой она видела бунт. Бунт – это когда детей бьют дубьем по головам.
Просила Федосья Иисуса Христа наградить Божьей милостью молодого царя. Алексей стоял перед глазами в немецком кафтане, но лицом русский. Румяный, точно такой, каким видела на Благовещенье. Помнила взгляд царевича: не одарил собой, праздником поделился.