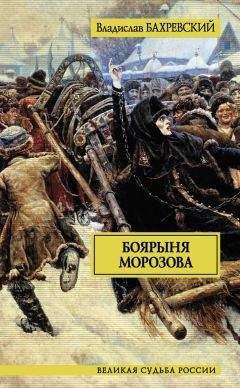Ничего еще не сделал царству, Москве, народу, а уже ответчик. И не за улыбки свои, не за сдвинутые брови – за Россию. За жизнь земную.
У Федосьи пронеслось все это в голове, и она поскорее прочла молитвы, чтоб с Богом быть.
Скорбные колокола ударяли во всех церквях московских.
Вечерело. Москва была сумеречная, опустевшая.
Прокопий Федорович взял обоих сыновей и поспешил в Большой дворец. На присягу царю Алексею Михайловичу. А в Кремле тоже пусто. Защемило под ложечкой старшего Соковнина. Не промахнуться бы!
Но купола соборов, как святые стражи, в шлемах золотых. Россия и царь – единое. Царь таков, какова Россия, а у России лик царя.
Первым присягнул великому государю Никита Иванович Романов, двоюродный дядя. Соковнины присягали в первой сотне, когда в Успенском соборе пустовато было. Но ночь все еще короткая длилась, и люди притекали сначала ручейком, а под утро началось половодье. Вся Москва пришла принять молодого царя себе в цари.
Хлопотал Борис Иванович Морозов, как птица над гнездом хлопотал. Господи, как же он всю жизнь завидовал правителям: Борису Ивановичу Черкасскому, Федору Ивановичу Шереметеву. Все Московское царство жило по их слову, по их уму. Были вельможи речистее, были деловитее, умнее гораздо, но кто из русских перечит царю? А прежний царь повторял слово в слово за Черкасским да за Шереметевым.
Свершилось! Алексею свет Михайловичу говорить словами Морозова, только не поспешить бы. Сразу-то на дыбы встанешь – голову отобьют. Чтоб землю из-под ног совсем не упустить, на четырех пока стоять нужно. Ничего, что поза неказиста. Борису Ивановичу пятьдесят шестой год, научили терпеть и ждать. Четверть века часа своего звездного ждал! Так ведь проще было! Ныне, когда вся Москва на поклон спешит, день – за год. Геенна огненная, а не жизнь.
Мимо приказов к нему идут, он слушает, но ничего не решает. Тихоней прикидывается, и все знают, что прикидывается. Он и не скрывает, что прикидывается, но власть пока что у старых слуг, у людей царя Михаила. Может, и не власть уже, но чины все у них.
Федор Иванович Шереметев – судья Стрелецкого приказа: войска у него; он же судья Приказа большой казны – деньги у него, у него Аптекарский приказ, а в приказе ведают царским здоровьем.
Во Владимирском Судном приказе сидит Иван Петрович Шереметев. В приказе творят суд над боярами, окольничими, думными дворянами. В Разбойном приказе опять Шереметев, Василий Петрович.
Казанский дворец и Сибирский приказ у зятя Федора Ивановича, у Никиты Одоевского.
Все в родстве с Романовыми и между собой. Потому и не спешил Борис Иванович Морозов.
Правда, через неделю после смерти царя Михаила у приболевшего Федора Ивановича Шереметева, чтоб силы он свои драгоценные не распылял на малое, взяли Аптекарский приказ. Взяли, но никому не отдали: пусть до поры дьяки хозяйство ведут. Себе Борис Иванович ухватил невидный Иноземный приказ. Здесь ведали наемными офицерами. Сила небольшая, но команды слушает и тотчас исполняет.
Хлопотал Борис Иванович! Строил гнездо со всех сторон сразу, соломинку за соломинкой, но всегда у него было главное дело.
Пора было избавиться от датского принца Вольдемара!
Вот и напросился к их высочеству датскому принцу для наитайнейшей беседы.
Секрета ради пришел в Борисов дворец царским путем, переходами.
Королевич был хмур и заранее зол, но услышал неожиданное:
– Ваше высочество! Я слуга великого православного царя, и я спрошу тебя: готов ли ты креститься в православие, чтоб на радость Московского царства и всея России обвенчаться с царевной Ириной Михайловной?
Королевич сидел в деревянном кресле. Яростно грохнул кулаками по подлокотникам.
– Прости меня, ваше высочество! Я человек подневольный, потому еще спрошу тебя. Готов ли ты дать согласие на венчание с государыней царевной Ириной Михайловной, ибо в час твоего согласия ты получишь города Суздаль, Ярославль, Ростов, Новгород, Псков, иные многие земли и тысячи рабов?
Королевич уши руками закрыл.
Борис Иванович стоял, молчал, улыбался. Вольдемар таращил глаза не хуже рыси. Борис Иванович сказал покойным голосом:
– Как только я услышу от тебя, ваше высочество, два слова: «Нет, не согласен» – я иду с ответом твоим к великому государю и буду приготовляться к твоему отпуску к отцу твоему, к его величеству королю Христиану… Скорбь по царю Михаилу Федоровичу не позволяет думать об отпуске ранее, чем через месяц.
Заговорил-таки датский принц:
– Месяц траура закончится 12 августа. Я уеду 13-го.
– Будь по-твоему, – услышал королевич невероятное, – 13 августа будет тебе отпуск в Золотой палате. Приличия ради из Москвы уедешь через неделю, 20 августа.
У королевича слезы на глаза навернулись. Борис Иванович, улыбаясь, кланялся и отходил к двери. У двери остановился.
– Ваше высочество, из дворца тебе выходить не следует. Народ на тебя зол: нападут – не успеем отбить.
Закрыл тотчас дверь за собой.
Борис Иванович не собирался мстить принцу за давний свой позор, когда под белы руки выставили с пиршества. Говорил правду. Москва площадей собиралась постоять за молодого царя, за честь его и за честь всего царства.
24 июля на Красной площади и впрямь собралось немалое гульбище. Договаривались стоять едино и громко рассуждали, как добраться до гуся датского, чтоб шею свернуть ему насмерть. Заодно и всех немцев прибить.
Борис Иванович разогнать народ не посмел, но поспособствовал ближним людям Вольдемара слышать и видеть разгневанный народ. Выслал к Спасским воротам бояр, кои успели сбиться в партию друзей принца. Эти сговаривались посадить на престол истинного королевича.
Мудреная жизнь затеялась у Бориса Ивановича. Не дожидаясь, пока вся власть перельется из сосуда Шереметева в его сосуд, освобождался и от других охотников быть устами царя.
13 августа великий государь, отпуская принца датского восвояси, дал ему золота, соболей – и для бережения нарядил с ним до границы полторы тысячи детей боярских под воеводством боярина Василия Петровича Шереметева. А на проводах Вольдемара – не был. И Борис Иванович – не был.
18 августа преставилась вдовствующая царица Евдокия Лукьяновна: не осилила горестей – смерть драгоценного мужа, несчастная судьбина Ирины, печаль по обреченным на вечное девичество дочерям Анне и Татьяне.
Осиротел шестнадцатилетний самодержец, припал к Борису Ивановичу Морозову. Один он остался у него своим. А Борису Ивановичу в няньках сидеть времени нет. У государства норов неверный, отпустить вожжи на день – год будешь плакаться: в сторону умчит, а то и всю повозку расшибет вдребезги.
Как помер царь Михаил, дня не было, чтоб дом боярина Бориса Ивановича Морозова без гостей.
Приезжали помянуть царя и царицу, привозили хозяину дома подношения: серебряные кубки, братины, шубы – собольи, рысьи, беличьи; сабли и ружья с чеканкой, в каменьях дорогих, расшитые жемчугом пелены, кресты и зеркала. Гостя за дверь не выставишь. От скорби немочный – пошатывало – Борис Иванович принимал всех и подарки тоже принимал.
Наконец-то пробились к нему и родственники, Леонтий Стефанович Плещеев и Петр Тихонович Траханиотов. Петр Тихонович приходился Борису Ивановичу шурином, а Леонтий Стефанович был шурином Петра Тихоновича.
– По бедности нашей двумя дворами один подарок едва осилили, – пожаловался Петр Тихонович, поднося с поклоном Борису Ивановичу святое Евангелие в золотом окладе с изумрудами.
Глаза Бориса Ивановича сверкнули ответной лаской. Такой оклад двух деревенек стоит. Ничего не сказал, подарок принял, поставил под образа, положил гостям руки свои маленькие, мягонькие на плечи, усадил за стол и перестал быть болящим.
– Поговорим, ребятки. Есть о чем поговорить.
Хлопнул в ладоши, велел подавать пироги. Сел в красном углу, локти на стол, подпер голову ладонями и как бы ухо выставил. Гости поняли: говорить будут они. И заговорили.
– О великомудрый отец наш, Борис Иванович, на тебя все наши упования! К тебе идем, как идут на свет ночные мотыльки! – так запел Леонтий Плещеев. Морозов не расцвел, но и не поморщился, слушал, чуть набычив круглую большую голову, бритую, в бархатной ермолке. – Отец наш, Борис Иванович, ты можешь нас выгнать из дому, но мы пришли сказать тебе правду истинную. Не только мы, вконец обнищавшие московские дворяне, – вся святая Русь глядит на тебя с надеждой и ждет от тебя деяний великих и крутых. Коли ты велишь нас всех кнутами перестегать, перетерпим. Лишь бы Россия была спасена от грабежа, самоуправства и глупости.
В лице Морозова никакой перемены, но ведь слушает.
– О господин наш, отец и учитель! – подхватил песню Петр Тихонович. – Может, мы по незнатности своей, по дикости, вдали от царского престола, мыслим дурно и ничтожно – тогда прости, просвети и наставь на путь! Но ведь, отец наш, попустительством сильных властей гибнут города, земля приходит в запустение. Нищие порождают нищих, но в наши дни уже и дворяне плодят не дворян, а опять же нищих.