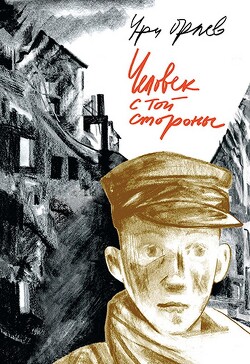Я тоже почти плакал. Мой отчим никогда ничего мне не объяснял. И не готовил меня заранее. Он говорил, что лучше всего учиться жизни «через глаза», а не из разговоров. И вот в тот раз ему принесли маленькую девочку. Ее мать несла ее и все время плакала. А потом пришел врач и сделал девочке усыпляющий укол в ее крохотную попку. И тогда мать снова запеленала ее во все простынки, и снова поцеловала ее, и передала моему отчиму. И еще дала ему сумку с бумагами. Я спросил, что там, и один из трех братьев объяснил мне, что в этих бумагах написаны имя девочки и имена ее родителей, а также адрес ее тети в Америке, чтобы можно было после войны связаться с ней и вернуть девочку ее семье.
— И еще там деньги, которые, как сказал твой отец, он передаст матери-настоятельнице в женском монастыре.
И когда еврей сказал это, мой отчим рассердился. Но промолчал. Он уложил девочку в большую коробку, а когда мы спустились в туннель и немного отошли, я стал его расспрашивать. И он объяснил, что относит всех этих младенцев в женский монастырь, и там их будут растить и сделают из них хороших монахинь.
Я спросил, кто будет хранить их бумаги.
Отчим сказал: «А, это…» — как будто только сейчас вспомнил. Потом вынул из кармана бумаги, порвал их и бросил клочки в поток вонючей жижи.
— А если ее мать все-таки останется в живых и будет после войны искать свою девочку, как она сможет ее найти? — спросил я.
Но Антон был неколебимо уверен, что у этой матери мало шансов остаться в живых. И потому что она уже не так молода и не вынесет всех мучений, и потому что немцы все равно не оставят в живых ни единого еврея. Наверно, он почувствовал, что я не совсем уверен в его правоте, и поэтому добавил, что для девочки лучше быть христианкой и не знать, что она из евреев, потому что быть евреем — это беда, большая беда, — ведь я и сам вижу. Так было всегда, и так будет всегда. А он спасает девочку от этой беды. Я сказал, что быть монахиней — это тоже большое несчастье. Но он возразил, что в монастыре их помещают в сиротский приют, и девочек, которые воспитываются в этом приюте, не делают насильно монахинями, разве только какая-нибудь из них этого сама захочет, когда станет взрослой. И еще он сказал:
— Не думай, будто я это делаю ради денег. Эти деньги я действительно отдаю матери-настоятельнице.
Тогда я спросил, как же он берется спасать еврейских детей, если так ненавидит евреев. И тут он ответил:
— Ты не понимаешь, Мариан. Я ненавижу евреев, но я не ненавижу людей.
Иногда меня занимает мысль — что бы я сделал, если бы мама не уличила меня в первый же раз? Пошел бы с Вацеком и Янеком еще и еще?
Я думаю, что, если б я пошел тогда на исповедь, моим мучениям пришел бы конец. Наш ксендз на воскресных проповедях часто поминал «наших братьев, которые в беде». Он имел в виду евреев. Не то что ксендз у Вацека и Янека — тот всегда говорил о «жидах, которые распяли нашего Христа». Если бы мама не рассказала мне тогда всю правду о моем отце, я наверняка рано или поздно пошел бы на исповедь. И рассказал бы ксендзу, что сделал. Я любил ходить к нему. И не только потому, что мама, как правило, спрашивала меня хотя бы раз в неделю: «Мариан, ты уже был на исповеди?» И не из-за Антона, который ходил на исповедь раз в месяц, в последний четверг, как по часам. Просто в исповеди я находил утешение и избавление от всех своих семейных и школьных проблем. И еще — я любил и уважал нашего ксендза. Но эта история с деньгами не дождалась моей встречи с ксендзом. Мама рассказала мне всю правду о моем настоящем отце, и с тех пор я больше не ходил исповедоваться. Какой смысл идти, если ты не можешь говорить о том, что занимает тебя больше всего. А меня тогда больше всего занимала история моего отца.
Я уже рассказывал, что мой отчим Антон не любил лишних слов. Но в пьяном состоянии он становился разговорчивым. И однажды, когда я в очередной раз тащил его домой, он сказал мне, что человек не может все таить в себе, а тот, кто пытается так жить, в конце концов заболевает от своей скрытности. И добавил, что поэтому он всегда все рассказывает маме. А с тем, что он не может рассказать маме, он идет к ксендзу. Я воспользовался случаем и спросил, что именно он не может рассказать маме. Я думал, что он вспомнит случай с Крулем, но он меня удивил. Он вдруг сказал что-то такое, чего я никак не ожидал:
— Я клянусь тебе, Мариан, это не про других женщин. Я не хожу в публичный дом, клянусь. Я люблю твою мать. И тебя. Но почему ты не хочешь называть меня папой?
И он заплакал пьяным плачем. Потому что я ни за что не соглашался, чтобы он усыновил меня по закону.
Я думаю, что эта история с деньгами произошла в начале декабря, еще до того, как выпал настоящий снег. Это значит, месяца через три-четыре после того, как я начал ходить с отчимом по туннелям. Я вышел из дому и увидел, что земля уже покрыта белой изморозью и лужи вдоль всей дороги замерзли. Это было в понедельник, и я встал очень рано. Мне нужно было перед школой вернуть пану Кореку его трехколесный велосипед с прицепом.
Я добрался до трактира, поставил велосипед на место и вышел на улицу. Людей было мало, дети еще не шли в школу. Я выбирал замерзшие лужи подлиннее, хорошенько разбегался и потом скользил по всей их длине, размышляя о подошвах: права ли мама, когда говорит, что они от этого истираются? И вдруг меня окликнули. Я оглянулся и увидел Вацека и Янека. Помню, я еще подумал: откуда они взялись, холера им в бок? Что они здесь делают в такую рань? Дорога в нашу школу шла в прямо противоположном направлении. Моя мама