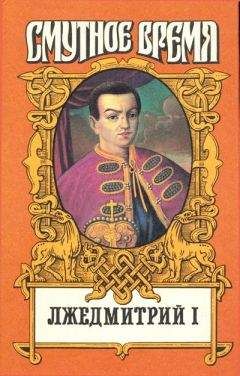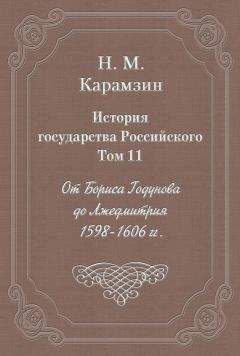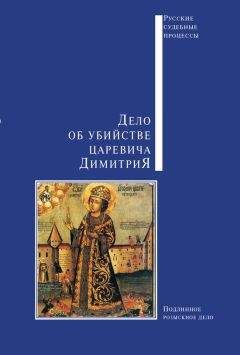К утру плотный молочный туман не рассеялся, а еще больше загустел. Трава от росы гнулась, от нее тянуло холодом и сыростью. Поджав ноги, Артамошка Акинфиев сидел у костра, ворошил угли палкой. Искры гасли на взлете.
Костры горели по всей луговине, но туман скрывал их. Даже стреноженные кони, что паслись в двух шагах от Артамона, и те словно растворялись в тумане.
«Затянуло, — подумал Артамошка, — теперь к полудню не разъяснится».
Пешая и конная холопская рать Косолапа, вооруженная дубинами и топорами, вилами и самодельными копьями, обрастая все новыми и новыми толпами голодного люда, двигалась от самого Севска. Притомился народ, озлобился. Страшен был во гневе мужик, жег, разорял боярские усадьбы, разбивал по пути монастырские хлебные житницы…
Подступили к Туле и отошли. Крепостные стены высокие, стрельцов и огненного боя вдосталь. Поворотил атаман Косолап войско на Можайск.
Хлопко лежал на войлочном потнике рядом с Артамошкой. Закинув руки под голову, думал: «Можайск не Тула, не устоит».
Беглые холопы рассказывали, в Можайске воеводой князь Туренин. «Эко куда вознесся!» — подумал Косолап и усмехнулся. Похвалялся воевода перевешать всех мужиков на осинах, а первым — Хлопка. Видать, не может забыть, как под Москвой от ватаги Косолапа едва спасся.
Той ночью откуда было Хлопке знать, что нападет он на поезд своего бывшего боярина. Выяснилось наутро. Долго сокрушался Косолап, что не поймал князя Дмитрия Васильевича, голову ему не срубил.
У Артамошки мысли те же. Тогда ватага Косолапа ушла от Москвы. Под Кромами столкнулись со стрельцами. В бою побили ватажников, немногие уцелели от стрелецких пищалей и бердышей. Но вскорости снова обросла ватага Хлопка людом. Нынче тьму мужиков ведет Косолап…
Ржут кони, шумит луговина людскими голосами. Поднял голову Косолап, прислушался.
— Чуешь, Артамон, ровно река в половодье гудит. Вот она, сила! Бегают от нас бояре, что мыши от кота. А с чего начиналось, помнишь? То еще будет! Гуляй, мужики, не хочу. Это тебе, Артамошка, я сказываю, атаман Косолап.
Артамон, не отрывая глаз от огня, проговорил:
— Чует мое сердце, можайский воевода, как и тульский, не выйдет за ворота. Натопчемся мы под стенами вдосталь, едрен-корень.
— Э, нет, — повел Косолап пальцем, — ты, Артамон, князя Дмитрия Васильевича не знаешь, а я ему не один год служил. Князь напролом полезет.
— А ежели не выйдет, будем ли приступом город брать аль нет?
Косолап поднялся, накинул на плечи кафтан, опоясался саблей и, пригладив пятерней взлохмаченные волосы, проговорил уверенно:
— Эвон сколь люда, о чем речь…
Тем часом, когда рать Хлопка передыхала, путь на Можайск заступил ей стрелецкий приказ. Воевода князь Туренин выдвинул наперед пищальников с огненным боем, за ними стрельцы с бердышами, в длиннополых кафтанах и лихо заломленных шапках.
Изготовились, с утра дожидаются разбойников. Князь Дмитрий Васильевич нервничает, вдруг обойдет Хлопко город стороной, увильнет от встречи. А можайскому воеводе хочется угодить государю Борису Федоровичу, разбить татей. Князь Дмитрий Васильевич еще с вечера велел на городском пустыре поставить высокий помост, дабы всем видно было, как казнят злодеев. А Косолапа он, князь Туренин, повесит под городскими воротами, но допрежь велит бить принародно батогами.
Время перевалило за обед. Устали стрельцы, разбрелись. Тут же на поле кто улегся, иные уселись, судачили, сетовали на жизнь. Эка понадобилось князю-воеводе попусту от домашних дел стрельцов отрывать. Поди, на огородах нынче дел по горло, а тати, где они? Может, они стороной пройдут?
Сам воевода домой отправился. Еще с утра заказал стряпухе щей с утятиной.
Умостившись за дубовым столом, помешал в глиняной миске серебряной ложкой. Щи густые, наваристые, запах в ноздри лезет. Поддел полную ложку, хлебнул, не дуя, закрутил головой. Обожгло до слез. Выбранился;
— Эка дура баба, раскалила!
Откинулся на лавке, портки в поясе отпустил, но не успел щами насладиться, стуча сапогами, вбежал стрелец, крикнул:
— Разбойники объявились!
Воевода за стрельцом рысцой. Мигом влез на крепостную стену, с нее по приставной лестнице на башню. Отсюда все как на ладони видно. Десятники и сотники стрельцов строили, покрикивали. Стрелецкий полковник коня дыбил, грозил кому-то кулаком.
А из-за дальнего леса, батюшки светы, разбойного люда видимо-невидимо валило, по полю растекались.
Ойкнул воевода, по коже мороз загулял. Не устоят стрельцы. Князь Дмитрий Васильевич сам себя корил, зачем велел стрельцам из города выходить.
Грохнули со стен пушки. Ядра, не долетев до разбойников, взрыхлили землю. Захлопали стрелецкие пищали.
— Попусту палите! — заверещал воевода и затопал сапожками.
Но никто князя не услышал. А холопы ощетинились вилами и копьями, накатились. Впереди, воевода узнал его, бежал Косолап. Размахивая саблей, повернул голову к своим, взывал:
— Навстречь, удальцы-молодцы, постоим за долю!
Снова застучали пищали, упало несколько разбойников, но другие не поворотили.
Сшиблись! Замелькали топоры и дубины, бердыши и сабли.
Подались стрельцы, но ватажники наседали. Артамошка в самую гущу втесался, кричал:
— Круши боярских заступников!
Дрогнули стрельцы, побежали, бросая пищали и бердыши. Со стен хлестнули картечью пушки. Приостановились мужики, а стрельцы уже ворота затворяли. Хлопко саблей махал, звал своих:
— Други, на слом!
Кинулись ватажники за своим атаманом, перекатились через ров, а со стен в них из пищалей палили, вар лили, и отступила мужицкая рать от Можайска.
* * *
По московским церквам и на торгу, в хоромах и избах только и разговору:
— Косолап холопов на Москву ведет, держитесь, бояре!
— Воровская орда разбой чинит, пора унять!
— Хлопко — заступник голодного люда.
Князь Туренин прислал Борису письмо. Отписывал воевода, что у Косолапа сила и с одним стрелецким полком его не одолеть. Но он, князь Туренин, Можайска разбойникам не отдал.
Созвал Годунов думу. До хрипоты спорили бояре, эвона до чего распустили холопов, теперь и сладу с ними нет. Наконец урядились: над полками, какие государь на вора пошлет, воеводой будет Иван Басманов.
Покидали Грановитую палату довольные, пусть брат царского любимца Петра Басманова с разбойниками повоюет, не велика честь для окольничего вора одолеть.
Борис патриарху знак подал задержаться. Сошел с трона, уселся с Иовом на одной лавке. Когда закрылась за боярами дверь Грановитой палаты, Годунов отер ладонью влажный лоб, промолвил:
— Уловил, отче, как виляют? Кому-нибудь, только бы не ему заботы. И так каждый.
Помолчал, потом снова сказал:
— Устал я, отче, в коий раз говорю тебе это. Скину с себя бремя царское, в монастырь удалюсь.
Иов от неожиданности отшатнулся:
— Льзя ли так, государь, народом избран ты!
— Сыну царство уступлю!
Положив руку на посох, Иов отрицательно покачал головой:
— Разумен Федор, спору нет, но мудрости еще не взял.
— То с годами приходит, — возразил Борис.
— Истину глаголешь, сыне, всему свой час. Так зачем искушать Федора? Настанет и его день!
— Дожить бы.
— На все воля Божья, сыне.
— Царствование мое вельми трудное, лета голодные, моровые, холопы войну затеяли. Эвона, целое войско противу воров наряжаем.
— Господне испытание, сыне, не ропщи.
Борис молчал, Иов продолжал:
— После ненастья будет и ведро.
— Когда-то? — Годунов усмехнулся, встал. — Прости, отче. Малодушие мое мимолетное. Забудь, о чем говорил я.
— Чую голос государя. — Иов тоже поднялся и, опираясь на посох, потянулся вслед за Годуновым из палаты. На ходу продолжал говорить: — Ныне главная забота холопов унять, в повиновение привести.
Борис повернул к патриарху голову, глянул насмешливо.
— Нет, отче, на воров и Ваньки Басманова предостаточно, а вот уста закрыть, какие о Димитрии слух Пускают, тут и стрельцы не подмога. Но, погодите, — Борис гневно потряс кулаком, — дознаюсь, не помилую! Не погляжу, боярин ли, князь!..
А Шуйский и Голицын как сидели на думе рядом, так вместе и вышли. Оба важные, в высоких собольих шапках, вышагивали, по булыжнику посохами постукивали. В церквах звонили к вечерне, тянулись к Чудову монастырю богомольцы.
Не доходя до Спасских ворот, Шуйский ехидно обронил:
— Како Годуновых припекло! Чай, приметил, князь Василь Васильевич, Семенки Годунова рыло? Будто на поминках сидел. И Бориска ликом сдал.
Голицын ничего не ответил, Шуйский тоже замолчал. Повстречался стрелецкий наряд. Стрельцы боярам поклон отвесили. На Красной площади, хоть время и к вечеру, а бездомного люда было еще много. Голицын неожиданно заговорил: