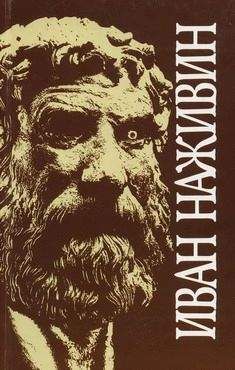А дни и ночи бежали — быстро, быстро… И вдруг из Пирея страшная весть: священный корабль с Делоса идет!.. Среди друзей старика началась суета. Ксантиппа, рыдая, рвала на себе седые волосы, дети испуганно плакали. Критон решительными шагами вошел в темницу.
— Сократ, никакие колебания больше невозможны: завтра — казнь. Я купил всех, кого нужно, и на твоем пути нет никаких препятствий. Скажу даже больше: мужи афинские одумались и ничего так не желают, как твоего бегства. Пожалей семью, пожалей нас, твоих друзей, пожалей даже твоих судей, которые в ослеплении страстей вынесли этот ужасный и несправедливый приговор, — бежим!.. Ты и вся твоя семья будете обеспечены до конца дней. Не медли же!..
Сократ с мягкой и грустной, но точно рассеянной улыбкой посмотрел на взволнованное, несчастное лицо Критона и покачал, все улыбаясь, исхудавшей за этот месяц головой. Взволнованно вошли ученики, которые сейчас же начали молить его о том же. Но они не понимали, что Сократ давно уже перешагнул роковую черту в душе и возврат для него назад был просто не по силам. Играя шелковистыми, золотыми локонами Федона, он тихо увещевал своих друзей быть мужами и спокойно встретить неизбежное, как вдруг в темницу с раздирающими воплями ворвалась растрепанная Ксантиппа.
— Сократ, муж, пожалей нас!..
И, упав к его ногам, на истертые плиты, она рвала на себе волосы и билась головой об пол. Сократ побледнел и губы его посинели и затряслись: он как будто впервые осознал, что он связан другими, что он принадлежит не только себе. Старые руки дрожали… Он растерянно смотрел то на Ксантиппу, то на бледного Критона — тот невольно подался вперед: авось, сопротивление старика будет теперь сломлено. Но Сократ, сделав над собой тяжелое усилие, дрожащим и слабым голосом проговорил:
— Уведите ее… Больно… все… это…
Критон сделал знак своему слуге, который всегда сопровождал его, и тот, рослый и сильный, поднял безумствующую Ксантиппу и, осторожно обняв, повел ее, сопротивляющуюся, вон. Сократ отвернулся. Губы его тряслись. Но он овладел собой.
— А что же я не вижу нашего милого Платона? — спросил он тихо.
— Он вот уже третий день лежит больной…
— Так, так… — покорно сказал Сократ. — Ну, передайте ему мой последний привет… А это вот, — протянул он Федону исписанный папирус, — два стихотворения на Эзоповы темы, которые я написал тут, в тюрьме — слава великим богам, это все, что останется после меня написанного. Возьми это на память обо мне…
У Федона затряслись губы.
— Может быть, это было большой ошибкой с твоей стороны: ты не подумал о нас… — сказал он. — Единственный раз, когда я видел тебя за писанием, это когда ты беседовал с Эвтидемом о справедливости и, чтобы дело было ему яснее, писал — на песке…
И у Сократа мелькнуло в голове: а не все равно?.. Но он не сказал ничего.
В низкую и мрачную темницу вошел тюремщик, уже старый человек с бесконечно усталыми глазами.
— Сократ, твой час настал… — сказал он в простой торжественности. — Ты всегда был мудр и тих, не как другие, и я надеюсь, что и последний час твой ты встретишь так же, как жил тут. Судьба это судьба. А на меня, — его губы чуть дрогнули, — ты не сердись, добрый старик: я не свою волю творю…
И он торопливо отвернулся.
— Дай мне твою чашу… — встал, звеня цепями, Сократ. — И скажи мне, как я должен все это сделать…
— Выпить все до дна… — снимая с него цепи, отвечал тюремщик мокрым, прерывающимся голосом: он, в самом деле, таких узников за свою долгую жизнь при темнице еще не видал. — А потом надо ходить. Когда же ты почувствуешь, что цикута начинает действовать, то приляг — и жди…
Сократ спокойно принял чашу. Федон разразился рыданиями, а за ним и другие. Слышно было как хрустели руки Антисфена, который сжимал их изо всех сил, чтобы не разрыдаться.
— Но я выслал Ксантиппу только для того, чтобы этого не было, — с тихим упреком сказал Сократ. — Будьте мужами… Итак, час разлуки настал. Мы расходимся: я — чтобы умереть, вы — чтобы жить, но что лучше, это известно только Богу…
Он мягкими, грустными глазами простился со всеми, спокойно выпил чашу до дна и возвратил ее тюремщику. Тот отвернулся и закрыл лицо полой своего дрянного плаща.
— Ну, а теперь я буду ходить, как советовал этот почтенный человек… — сказал Сократ.
Заплаканные, припухшие, полные боли глаза смотрели на него не отрываясь. Он чуть улыбнулся им со светлым лицом и стал ходить из угла в угол, слушая себя. Это продолжалось недолго: он почувствовал, что ноги его деревенеют.
— Так… — сказал он себе. — Теперь, значит, надо лечь…
Он лег на свое жесткое ложе и наблюдал, что в нем происходит. Общий паралич, вызываемый цикутой, подымался вверх. Он перестал чувствовать ноги совсем. И это поднималось. Он глубоко вздохнул и закрыл глаза. Слышно было в мертвой тишине, как кто-то давился рыданиями.
— Критон, — тихо позвал Сократ. — Смотри, не забудь принести Асклепию в жертву петуха за вы… здоро… вление…
Все переглянулись: какое выздоровление? Он бредит?
— Это он смерть называет выздоровлением… — дрожащими, распухшими губами прошептал Федон и опять горько заплакал.
Критон склонился к Сократу.
— Может быть, у тебя есть и другие желания. Сократ?.. — тихо спросил он.
Но Сократ уже не ответил. По лицу его разлился такой блаженный покой, что снова зарыдали все с тюремщиком вместе, но уже не столько от горя, сколько от безграничного умиления…
— Я пойду за Ксантиппой… — тихо сказал Критон. — Теперь тут очередь за женщинами… Да… — тяжело вздохнул он. — Говорили, что род его идет от Дедала, от Икара, который с грешной земли устремился к солнцу и…
Он не докончил своей мысли и в сопровождении своего раба вышел. Там его встретили воплями.
— Ксантиппа, — сдерживая дрожь в голосе, сказал Критон. — Иди и приготовь его к погребению… А о себе и детях не беспокойся нисколько: я беру все на себя…
И распухшая от слез Ксантиппа, поняв, что все кончено, и сразу покорившись неизбежному, взялась с помощью соседок за погребальные хлопоты. Они обмыли Сократа, на голову его возложили по обычаю венок из зелени. По углам темницы поставили сосуды с благовониями, но на лицо маски не положили: на нем было выражение такого дивного покоя и величия, что просто руки не подымались закрыть его. В рот Сократу положили обол за перевоз Харону, а в руку дали кусок сдобного хлеба для Цербера — все честь-честью, как полагается у хороших людей. Потом в гроб ему положили — вероятно, обычай этот был заимствован у египтян, у которых он существовал с глубочайшей древности, — маленькие фигурки. В женские могилы греки клали только женские фигурки, а из божеств Афродиту, Эроса, Деметру, Афину-Нике, а в мужские — и мужские, и женские…
И среди тихого плача всех близких, земля в ночи — похороны всегда совершались, до восхода солнца — поглотила Сократа. На востоке уже слабо черкнула зорька золотисто-зеленая… И все молча разошлись по домам. На третий день все близкие снова пришли на могилу, затем на девятый и потом на тридцатый, и каждый раз делали возлияния, приносили усопшему погребальную трапезу — все чинно, хорошо, как у добрых людей полагается…
* * *
И грустное повествование о кончине старого чудака Сократа современный историк заканчивает не менее грустным, но вполне естественным замечанием: «Нигде и следа не встречается, чтобы афиняне пожалели когда-нибудь об осуждении Сократа». Это справедливо: в древних записях, действительно, такого сожаления не встречается нигде, но когда через друзей Сократа по Афинам распространился слух, что его последняя просьба к друзьям была о жертве Асклепию, — в Афинах Асклепий пользовался исключительным уважением — город зашумел:
— А как же, говорили, что он никаких богов не признавал? В последнюю, можно сказать, минуту он не о себе, не о семье думал, а о том, как принести жертву богу… Ох, и легковерные же мы ослы — любой прохвост нас за нос водить будет сколько хочешь и хоть бы тебе что!..
От обвинителей Сократа все отвернулись и поэтому раз в сумерки кто-то так ловко угодил поэту Анитосу тяжелым камнем между лопаток, что он слетел с ног и немало после этого прохворал. Облегчила его только ночь, которую он по указанию жрецов провел в храме Асклепия… После этого он стал еще злее нападать на память Сократа и вообще всяких болтунов, но часто встречал сердитые возражения:
— Мели, мели больше!.. Все знают, что Сократ всю жизнь приносил установленные жертвы богам и в храмах, и у себя дома даже… Много тоже вас тут, брехать-то!..
Но среди тревог, ставших уделом Афин в это время, все скоро совсем забыли и Сократа, и его недругов… Воскресили потом эту трагедию Ксенофонт да Платон, но оба неудачно: Ксенофонт по свойственной ему тупости, а Платон по свойственному ему богатству фантазии и любви к прекрасным фразам, которые сделали из доброго старика какого-то философа, почти полубога…