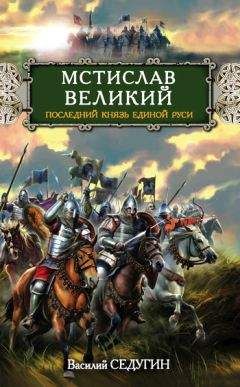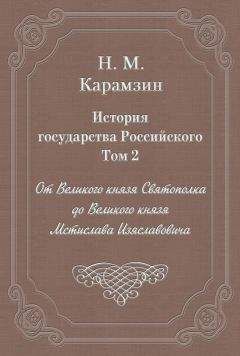Оглянувшись кругом и не видя его, она окликнула;
— Тятя! Тятя!
В ту же минуту скрипнула калитка, и в ней показался старый воевода. Он был без шапки. Лёгонький осенний ветерок раздувал его седые волосы на голове и бороде, серебрившиеся при свете луны.
Люда живо подбежала к нему и повисла на шее.
— А я, тятя, искала тебя, чтобы попрощаться, — сказала она. — Пора спать.
Отец поцеловал её в лоб.
— Я думал, ты уже спишь, моя ласточка! — отозвался старик.
— Нет, мы все пряли, батюшка! — отвечала она, гладя отцовскую бороду.
Во время этого разговора за калиткою послышался топот лошади; воевода поднял голову и начал прислушиваться. В ночной тишине слышны были равномерные, быстрые шаги приближавшегося. Люда, прислонив головку к плечу старика, тоже прислушивалась. Стук копыт раздавался уже рядом; наконец кто-то остановился у ворот, соскочил с коня и начал привязывать его к кольцу.
«Дурные вести!» — подумал старик и затем громко прибавил:
— Верно, посол с Подола!..
— А что там, на Подоле? — спросила дочь.
— Сегодня вече у Турьей божницы. Уже с полудня народ сбирается и галдит…
Калитка скрипнула, и на пороге появился красивый молодой человек; его тотчас узнали. Это был Иван Вышата, сын посадника из Вышгорода, друга и товарища молодости воеводы.
В эпоху нашего повествования Иван был тысяцким в Берестове и из любопытства поехал на вече.
Сверху тёмно-зелёного кафтана, подпоясанного золототканым поясом, был наброшен плащ-корзно, застёгнутый у шеи золотой фибулой; на голове серебрилась островерхая соболья шапка.
Подойдя на несколько шагов к воеводе, он снял шапку и низко поклонился старику.
— Бью челом вам, воевода! — сказал он и, повернувшись к Людомире, поклонился ей в пояс. — И тебе, красная девица, — прибавил он.
После этого снова обратился к воеводе:
— А я к вам приехал… Я был на вече у Турьей божницы… Увидев издали огонёк в ваших хоромах, я и поспешил.
Вышата говорил отрывисто, с остановками, как бы обдумывая, что сказать. По-видимому, он хотел что-то сообщить воеводе, но ему мешала Людомира.
Старик понял его и, попрощавшись с дочерью, велел ей удалиться.
Оставшись наедине, они уселись подле рундука.
— Ну, что слышно? — спросил старик.
— Печальные вести… — начал Вышата. — Народ галдит и несёт чушь на вас и на князя…
— Несёт… — повторил воевода задумчиво. — И он прав…
Вышата не ожидал подобного ответа; он ожидал, что воевода станет осуждать людей, собравшихся на вече без разрешения князя, между тем старик принял это известие совсем равнодушно.
Однако видно было, что Вышата приехал к воеводе не ради одного оповещения о том, что делалось на вече; его привлекли сюда ясные глазки и гибкий стан молоденькой Люды, которую он давно знал.
После такого равнодушного ответа Иван призадумался, не зная, что сказать.
— Чего ж они хотят? — наконец спросил воевода.
— Хотят прогнать половцев… Говорят, если князь не желает защищать ни нас, ни наше имущество, то мы сами должны защищаться. Не для того, говорят, мы прикопили добра про чёрный день, чтобы отдать его половцам и княжеским отрокам… Многие громко заявили, что у нас уже нет ни князя, ни воеводы, ни дружины, которые защищали бы нас от врагов, а потому мы должны поискать нового князя, лучших воевод и надёжную дружину.
Коснячко внимательно слушал Вышату.
— Не дружины и рук у нас нет, — сказал он, подумав, — а ума… Разве люди не видят этого? Правду говорит пословица: горе голове без ума, но горе и рукам без головы!
Разговор их продолжался недолго. Было уже поздно, и Вышата, откланявшись, уехал домой, а воевода пошёл в опочивальню отдохнуть, так как решил с рассветом отправиться на княжеский двор к Изяславу, чтобы рассказать о той опасности, которой он подвергался, и посоветовать, как её предотвратить. Он хорошо знал характер киевлян и предвидел печальные последствия ночного веча.
Едва занялась утренняя заря, воевода был уже на ногах, приказал оседлать коня и поехал к князю.
Тем временем на Подоле всё кипело как в котле: народ продолжал галдеть и уже начинал собираться толпами, чтобы идти на Гору.
Настало утро, солнце уже давно взошло, а воевода всё ещё не возвращался, и напрасно Людомира поджидала его на террасе… Толпы людей росли, народ сходился со всех сторон; на дороге, ведшей к воротам воеводы, появились конные. Все галдели и кричали, измышляя всякую всячину на князя и дружину. В воздухе пахло бурей. Воевода всё ещё не возвращался; Люда продолжала сидеть на террасе, поджидая отца.
У ворот раздался топот лошади.
«Верно, отец», — подумала Людомира, вставая с лавки и готовясь идти навстречу.
В тот же момент калитка отворилась, и в неё вошёл Иван Вышата.
Он был бледен и взволнован.
— Где отец? — спросил он тревожно, встречаясь глазами с Людомирою.
— Уехал на княжий двор ещё засветло и вот не вернулся, — отвечала она. — Я с нетерпением жду его.
— Скверно! — невольно вырвалось у Вышаты, забывшего, что он может напугать девушку.
Людомира смотрела на него своими голубыми глазами, в которых стояли слёзы, как бы спрашивая, в чём он видит это зло.
Вышата, по-видимому, понял её немой вопрос и беспокойство и объяснил:
— Народ с веча на Гору двинулся.
Однако Людомира ещё не понимала, в чём заключается опасность, и её только встревожила скрытность Вышаты. Она взглянула на него ласковым взглядом и, помолчав, спросила:
— Что же может приключиться с отцом?
Но Вышата, как бы не слыша её, продолжал:
— Я хотел его предупредить, чтобы он собрал дружину и не пускал людей на Гору.
— Разыщи его… поезжай за ним на княжий двор! — испуганно воскликнула Люда.
Заметив её испуг, Вышата хотел поправить положение. Ему стало жаль бедной девушки, и он ласково произнёс:
— Успокойся, моё солнышко… Ещё ничего не случилось!
Но девушка уже не слушала его:
— Скорее поезжай, отыщи отца, скажи ему, что случилось.
Вышата стоял как вкопанный, смотря на Людомиру; ему хотелось говорить, но он не мог.
— Поезжай же, поезжай, — прибавила она, — нужно предупредить отца…
Молодой тысяцкий приподнял шапку, поклонился и ушёл. Быстро сел на коня и в карьер помчался на княжеский двор.
Не прошло и получаса после отъезда Вышаты, как дорога из Кожемяк в Княжеский конец начала оживляться; конные и пешие толпы увеличивались, занимая площадь между Кожемяцкими воротами и хоромами воеводы.
Испуганная этим обстоятельством, Людомира приказала запереть ворота.
Видно было, что народ с умыслом останавливался перед домом Коснячко, потому что с каждою минутою всё громче произносилось его имя.
Вскоре кто-то подошёл к оконцу в частоколе воеводы и начал громко кричать:
— Эй!.. Вы… Отоприте ворота!..
— Позовите сюда воеводу — заячью шкурку!.. — крикнул другой. — Пусть идёт на совет… Народ просит его.
— Пусть даст нам коней и мечи, и мы сами прогоним половцев!
— И без дружины обойдёмся!
Толпа росла, шум увеличивался.
Людомира в испуге послала отрока к окошечку в частоколе и велела сказать, что воевода уехал на княжий двор.
— Неправда! — крикнули за воротами. — Мы видели, как отсюда выходил тысяцкий Берестова. Значит, воевода дома!
— Вышата не застал воеводы, — отвечал отрок из окошечка.
— В таком разе мы найдём его… Если он воевода, так пусть ведёт рать на половцев, а не сидит дома, словно заяц в лесу.
Волна народа приближалась и становилась опасной.
— Пойдём к князю! — послышались голоса.
— Пойдём!
— Нам не таких надо князей, которые пируют на наши куны… Мы найдём таких, которые будут отстаивать нашу жизнь и добро в открытом бою…
Неисчислимая масса пешего и конного народа всё увеличивалась, волновалась и шумела.
Но вдруг из толпы выехал всадник и, махая собольей шапкой над головою, закричал:
— Братцы, други милые, давайте разделимся! Пусть одна половина идёт на княжий двор и требует от князя коней и мечи, а другая пойдёт к темнице, в которой заперт князь Всеслав… Если Изяслав не хочет княжить над нами, то мы освободим Всеслава и посадим его на княжий стол. Пусть княжит и защищает нас!
Речь эта, по-видимому, понравилась народу, так как, словно по мановению жезла, толпа разделилась на две половины. Одна половина двинулась за двор Брячислава через мост и ворота Святой Софии к Княжескому концу, а другая поворотила назад и отправилась к месту заключения князя Всеслава.
Изяслав знал о начавшемся волнении народа, но, имея при себе дружину, не боялся киевлян и пренебрегал ими; он не ожидал, что бунт примет такой грозный характер.