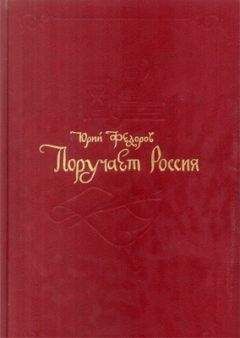Едва касаясь тонкими, гибкими пальцами кипенно-белых кружев пышного воротника и блестя по-молодому глазами, лорд Картерет с решимостью заявил, что Англия, защищая интересы Швеции — стража Балтики от русских, — готова даже и на крайнюю меру против царя Петра. Кутавшая до того зябко в меха тощие плечи королева шведов после этих слов несколько порозовела. Картерет наклонился к ее руке. Когда он выпрямился, глаза его заблестели еще больше. Королева взглянула на гостя и отметила, что у лорда исключительно приятное лицо: твердое, с решительным, истинно британским, подбородком, но вместе с тем не лишенное аристократичности. У королевы смягчились появившиеся за последнее время горестные морщинки у рта. Лорд Картерет, мгновенно почувствовав изменение настроения Ульрики-Элеоноры, в другой раз припал к ее руке.
Дальнейшим разговором Картерет еще больше оживил королеву. С размахом широко мыслящего политика он нарисовал перед королевой шведов, без сомнения, вдохновляющую картину.
Будущее Европы представлялось лорду Картерету весьма перспективным для Швеции. Англия и его величество король Георг (упоминания Англии и его величества короля Георга бесконечно повторялись в бурной речи лорда) объединят усилия Франции, Австрии, Пруссии, Польши, Турции и, без всякого сомнения, защитят Швецию. Тут, правда, лорд — без нажима, без какого-либо подчеркивания — заметил, что Швеции придется уступить королю Георгу, как курфюрсту Ганновера, Бремен и Верден.
— Но Швеция, — сказал улыбаясь лорд Картерет, — только выиграет от этого, так как его величество король Георг выплатит соответствующие компенсации, которые, конечно же, положительно скажутся на восстановлении столь тяжело пострадавшей от войны Швеции.
И опять названия столиц — Парижа, Вены, Берлина, Варшавы, Стамбула и неизменно объединяющего их Лондона — пролились из уст лорда.
Лицо Ка ртерета стало непреклонным:
— Невиданный союз держав поставит царя Петра на колени. Ульрика-Элеонора поднялась из кресла и, шурша шелком юбок, подошла к окну. Можно было отметить, что походка королевы приобрела некоторую игривость. Лицо ее пылало.
Супруг королевы и лорд Картерет смотрели в спину Ульрики-Элеоноры. И вдруг в наступившей тишине королева невнятно сказала:
— Я вижу звезды.
— Что? — невольно приподнявшись в кресле, спросил Картерет.
У супруга королевы в лице объявилась странная гримаса. Королева оборотилась от окна и воскликнула отчетливо:
— Я вижу звезды! — подняла руку, указывая на окно. Картерет и супруг королевы поспешили к ней. За влажными стеклами действительно сияли на расчистившемся небосводе яркие звезды. Это было как чудо. Поднявшийся неожиданно ветер разогнал давно и плотно висевшие над столицей шведов мрачнь е тучи, и звезды, словно омытые дождем, обновленные, сияли, подобно рождественским игрушкам праздничной елки.
В это же время, когда над Стокгольмом столь неожиданно и счастливо разъяснилось небо, не менее ловкий, чем лорд Картерет, посланец Лондона объявился в Вене. Его принял вице-канцлер Германской империи граф Шенборн, которого так огорчил в свое время Петр Андреевич Толстой.
Лондонский посланец, подобно лорду, посетившему Стокгольм, живой игрой ума нарисовал перед графом Шенборном соблазнительнейшую картину участия Австрии в дележе прибалтийских земель и сдерживании российского медведя. Вице-канцлер выслушал его со всем вниманием.
На том, однако, столь действенные шаги Лондона не пресеклись. Еще один лондонский представитель побывал в Берлине. Прусского короля Фридриха-Вильгельма Лондон поманил Штеттеном и прилегающими к нему землями. Это был лакомый кусок, перед которым суетному Фридриху-Вильгельму, отличавшемуся исключительной жадностью, было немыслимо устоять.
Успел Лондон и в переговорах в Варшаве, что, впрочем, было несложно, так как Август всегда был готов на любое предательство, и это было известно всей Европе. Успел Лондон и в Дании. Ее соблазняли перспективами овладения Штральзундом, Шлезвигом и островом Рюген. Теперь, как казалось Лондону, все устроилось.
Петербург между тем не проявлял очевидного беспокойства.
В письмах из европейских столиц к своим дипломатам на берега Невы чаще и чаще употреблялось слово — изоляция. Но можно было приметить, что со временем оно изменяло окраску. И ежели вначале слово это звучало с восторгом и торжеством — «изоляция!», то позже в него стал вкрадываться оттенок вопроса — «изоляция?», а дальше и вовсе появилась некая неопределенность и даже растерянность — «изоляция…».
Много было неясного в дипломатической переписке.
Российские же десанты продолжали зорить шведскую землю. А царь Петр, вернувшись из морской экспедиции, с головой ушел в строительство флота и даже дипломатов иностранных принимал на судовой верфи. В матросской куртке, разгоряченный работой, царь много шутил и все с подковыркой, со смехом в глазах:
— Как братец мой Георг? — осведомлялся. — Как сестрица Ульрика-Элеонора? Все дружбу водят?
И много разного слышалось в этих вопросах дипломатам. По давней привычке Петр похлопывал иностранных гостей по плечам, дружески поддавал пальцем под ребра и говорил не тому, так иному:
— Может, топор возьмешь да мне подсобишь? Ну-ну, что невесел?
Совал топор в руки.
Дипломаты смущались. Да и смутишься. Весь европейский мир против него сплачивается, а он шутки шутит. Как это понять? Иные, правда, из тех, что поумней, примечали: шутить-то шутит царь, но вот корабли, да и какие корабли, все сходят и сходят со стапелей. А сколько их еще сойдет?
— То не игрушки, — говорили, — нет… Не забава для прогулок…
И тревожными глазами оглядывали качающиеся на волнах суда.
В ответных письмах дипломатов из Петербурга в европейские столицы стала пробиваться беспокойная нота. Но в Лондоне, вдохновителе изоляции России, пока торжествовали. Король Георг чувствовал себя героем, вершителем судеб мира. Ах, лавры власти! Кому они только не кружили голову. Ну да здесь удивляться нечему было. Забрался Георг на английский трон из не бог весть какого высокого кресла курфюрста ганноверского, и ширь перед ним объявилась… Слабая голова и пошла кругом. Такое часто бывало. А торжествовал-то он зря. И уж вовсе ни к чему обнадеживала себя Ульрика-Элеонора.
Иностранная коллегия российская восторги европейских царствующих домов по поводу заключенных меж собой союзов и договоренностей рассудила по-своему.
Гаврила Иванович Головкин, помяв мягкой ладошкой лицо, сказал:
— Вот князь Борис Иванович Куракин — светлая голова, дай бог ему здоровья, — Гаврила Иванович не спеша перекрестился, — пишет нам из Гааги, что союзы те никуда не годны. И цена им — грош.
Головкин из-под седых бровей оглядел сидящих за столом.
— Резонно, — сказал на то Петр Андреевич Толстой, — пустое все это!
Царь выжидательно кашлянул. Шафиров беспокойно заерзал на стуле. Сидели в его доме. Напротив окон ветер раскачивал сосны. Петербург был все еще не обустроен, и хотя сделано было немало, но неосвоенность земли и тут и там была видна. За соснами, в ложбинке, торчали кочки, осока стояла по пояс, мотались на ветру метелки камышей, как и тысячи лет назад, и дикая утка кричала надсадно. Знать, обеспокоил кто-то. Одним словом — болото проглядывало. Но правда, были кое-где тротуары, мостовая катила под колеса карет, Петропавловская крепость вздымала бастионы, но до столичного града — красы и гордости державной — надо было еще тянуться и тянуться.
«Кря-кря!» — орала утка проклятая. Шафиров поднялся, с досадой захлопнул окно. Петр Петрович — человек был с норовом.
Петр Андреевич, не обращая внимания на хлопоты вице-канцлера, думал о своем и вдруг вспомнил, как он на пыльной площади Стамбула, в виду Айя-Софии, вел разговор с французским послом Ферриолем. Француз был лукав и, восхищаясь целеустремленностью ислама, хлопотал вовсе о другом, а Петр Андреевич, вглядываясь в его лицо, вслушиваясь в интонации голоса, хотел прочесть тайный смысл его слов. Тогда, на стамбульской улице, для него важны были и слова, и интонации голоса, и быстрая смена выражений подвижного лица француза. Ныне словами, даже самыми ловкими, от Петра Андреевича трудно было заслонить истину. За маневрами короля Георга, за суетой его дипломатов он не видел ничего, что могло бы действительно угрожать России. Пустые то были хлопоты, хотя лорд Картерет обладал немалым даром убеждения, смел был и в любую погоду мог скакать по дорогам Дании, Голландии, Пруссии, плыть на кораблях в туманный Стокгольм или отправляться в иную сторону. Энергии ему было не занимать, но подлинных интересов стран и народов он не хотел учитывать в своих планах, которые всегда и неизменно и прежде всего разрешали интересы Англии и только Англии. Это было все равно что заставлять французов Бургундии пить горький ячменный английский эль, которому они предпочитали легкое виноградное вино, или парижан есть кровавый английский стейк, в то время когда их любимым лакомством была пулярка. А потому на слова Гаврилы Ивановича Головкина о негодности многочисленных союзов, поспешно образующихся в Европе, Толстой и сказал весомое: