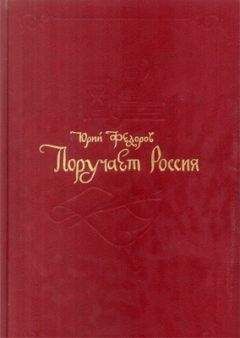Со свойственной ему непоследовательностью Август Великолепный стал убеждать князя, что он всегда был искренен по отношению к царю Петру, имел самую сердечную к нему при вязанность и жадно стремился к согласию.
Князь выслушал короля с каменным лицом, и то ли холодность Долгорукого, но скорее вздорный характер Августа, чрезмерное самолюбие и глупость толкнули короля на то, что он вдруг сказал:
— Если царь Петр не поддержит меня в моих начинаниях, — король вскинул гордо голову и заметно расправил плечи, — я могу принести ему немало неприятностей.
Это было вовсе ни на что не похоже: он просил помощи и он же угрожал.
Князь молча откланялся.
Петр Андреевич знал содержание письма, которое вез в Варшаву. Каждая его строчка была пощечиной Августу. Петр, напоминая королю о его предательствах, писал: «Предлагая о возобновлении дружбы, не следовало возобновлять дел, напоминание о которых может быть только противно царскому величеству». Последние слова письма били Августа наотмашь. В письме было сказано, что царь «не привык позволять кому бы то ни было пугать себя угрозами». Петр Андреевич легко себе представил, какое будет лицо у суетного Августа, когда он прочтет эти строки. Для этого не надо было обладать даром большого провидца, да такое и не особенно интересовало Толстого — с королем Августом было ему все ясно. Он же хотел полнее увидеть истинное положение, складывающееся в Польше. И князь Долгорукий в том ему помог.
В один из дней, по приезде в Варшаву, князь отвез Толстого в имение великого гетмана князя Любомирского.
Верст за пять до имения великого гетмана возок русского представителя в Варшаве окружили всадники с факелами в руках и в таком торжественном сопровождении Петр Андреевич и князь Долгорукий прибыли в имение князя Любомирского. Князь — высокий, крепкий, сухой старик, в собольей шубе и бобровой шапке, в польских красных высоких сапогах — встретил их на ступенях подъезда дворца, освещенных хитро придуманной лампой из множества зеркал, многократно увеличивающей светоносную силу зажженных в ней свечей. Князя окружала многочисленная шляхта, толпящаяся у подъезда. Гордые лица, дедовские широкие перевязи, яркие плащи и синие, и красные, и необыкновенных оранжевых цветов. Князь Любомирский был одним из самых богатых и влиятельных людей Польши. Когда он шагнул навстречу вылезшему из возка Петру Андреевичу, шляхта троекратно прокричала:
— Виват! Виват! Виват!
Толстой не без иронии взглянул на сие бодрое воинство и проследовал за князем в палаты. Подумал: «Факелы, фонарь этот со свечами, плащишки яркие, дедовские сабли… Все игрища, забавы… Веселый народ, когда-то им о деле задуматься?»
Стол был накрыт с польской щедростью. Петр Андреевич почти с неподдельным восторгом всплеснул ладонями.
— Ай-яй-яй! — воскликнул он. — Польская кухня всегда восхищала меня.
После десятой перемены блюд князь, не скрывая гнева, начал говорить о польских делах, о разорении, которое принес стране Август.
Петр Андреевич слушал его со всем вниманием, сокрушенно кивал головой, изображая лицом полное сочувствие. При всем этом он знал, что князь Любомирский присягал королю Августу, заверяя того в нерушимой верности, позже присягал с теми же заверениями Станиславу Лещинскому и в другой раз присягал королю Августу и все с теми же жаркими словами о верности.
— Август, — говорил князь Любомирский, — это бич Польши. Он приведет нас к тому, что в нас вцепится хищный германский орел, и тогда уже ничто не спасет многострадальную страну от раздела.
Увлеченный нежнейшим паштетом, Петр Андреевич вытер салфеткой губы и, глядя ясными очами на князя, необыкновенно четким голосом сказал:
— Вот такое будет всенепременно.
У Любомирского, казалось, слова застряли в горле. Он взял бокал вина, выпил, глаза его потемнели.
Сидя в возке, возвращавшемся в Варшаву, Петр Андреевич долго смотрел на скачущих по дороге шляхтичей с факелами. Всадники были задорны, в них не чувствовалось усталости от бессонной, проведенной за пиршественным столом ночи. С гиком и присвистами они то обгоняли возок, то пропускали его вперед и вновь, бодря коней, спешили следом. Лица были румяны, возбужденны и полны радости жизни. Петр Андреевич наконец отвел от них глаза и сказал Долгорукому:
— Мира в Польше не будет долго. — Кивнул подбородком на скачущих шляхтичей: — Экие красавцы, да им бы еще ума, хотя бы и порошинку… Но нет, нет, вона как скачут…
Горькая складка легла у губ Толстого.
В Варшаве он больше не задержался.
Экипаж Петра Андреевича катил к Потсдаму — резиденции прусского короля. И уже не польские пущи с чащами, беспорядочными завалами деревьев, густым подлеском, но ухоженные немецкие леса с однообразными просеками, мостками через реки и речушки, белеными часовенками на перекрестках дорог открылись его взору. И словно поощряемый этой упорядоченностью, но скорее в силу более и более развивавшемуся в нем чувству не торопить события, но дать им прийти в нужную пору. Петр Андреевич обдумывал предстоящий визит к Фридриху Вильгельму.
Толстой знал, что письмо царя Петра больше чем две недели назад передано королю Августу, и Петр Андреевич с уверенностью полагал, что содержание послания царя уже известно не только гордому польскому суверену, но и его окружению. Толстой был достаточно опытным царедворцем, чтобы с определенностью сказать: резкие и недвусмысленные слова Петра в адрес польского короля теперь разнеслись далеко и, надо думать, достигли слуха Фридриха-Вильгельма. Королевские дворы для того и существовали, чтобы предавать своих высоких покровителей. Такое было в Лондоне, в Париже, и такое наверняка было в Варшаве. Придворный чувствует себя ущемленным, ежели не подставит подножку суверену. Слишком низко и часто приходится ему кланяться королю, чтобы не вызвать тем непреодолимого желания выпрямиться хотя бы и в подлой интриге. И царь Петр хлестал Августа по щекам не без расчета на то, что звук пощечин достигнет слуха Фридриха-Вильгельма. Прусскому королю необходимо было напомнить до того, как перед ним предстанет Толстой, о российской армии, стоящей у границ Пруссии. Такое было не лишне. Широко раскрывая рот на Штеттин, по мнению петербургских дипломатов, Фридрих-Вильгельм вдосталь должен был глотнуть страха за будущее, оставаясь без помощи России. Ему следовало сильно подпортить аппетит, прежде чем он сядет за шведский стол. Да и в Варшаве Петр Андреевич сделал все, дабы так оно и случилось. Он не скрыл содержание царева письма от великого гетмана Любомирского и другим пересказал его содержание, пособляя при дворной почте. Видел улыбку Любомирского — злую и опасную, — видел, как туманились хмельным, глумливым счастьем вцепиться зубами в спину короля глаза придворных. И ему стало ясно: Августа они не пощадят.
В Потсдаме российскому дипломату отвели роскошные апартаменты, и по одному этому Петр Андреевич понял: все сделалось так, как и рассчитывали в Петербурге. Слова Петра до слуха Фридриха-Вильгельма дошли. Петр Андреевич удовлетворенно улыбнулся и пустил сквозь зубы звук, который неизменно свидетельствовал о добром его настроении.
Из окна апартаментов российского дипломата открывался широкий вид на поля роз, которыми славился Загородный королевский дворец. Множество садовников отдавали силы этому чуду, и розовые королевские поля поражали и тех, кто видел роскошь Версаля и знаменитые сады испанских королей. Но сейчас, глубокой осенью, розы осыпали великолепный наряд, однако взору русского посланника не было суждено томиться и скучать, озирая картины увядания. Перед пространством полей открывался солдатский плац — главная страсть Фридриха-Вильгельма. Прусский монарх коллекционировал не только цветы, но еще и необыкновенно рослых солдат. Люди Фридриха-Вильгельма рыскали по всей Европе и отыскивали гигантов. Золотом и вином они смущали наделенных высоким ростом молодых людей и вербовали их в особые роты прусского короля. В минуту слабости человек ставил подпись на их бумагах, а ежели не мог расписаться, чертил крест и становился собственностью короля на долгие-долгие годы. Перед окнами Петра Андреевича под грохот барабанов с утра до вечера маршировали роты исполинов. Казалось, что это были не живые люди, но одетые в железные кирасы неодушевленные заводные болваны, способные выполнять только команды офицеров. Даже лица их были настолько похожи, что представлялось, будто в движущихся рядах один многократно повторенный человек. Нога взлетала вверх, ударяла подошвой ботфорта в плиты плаца, тут же взлетала другая и также мерно ударяла в камень. И так раз за разом, раз за разом… Это было настолько противоестественно, что у Петра Андреевича холодок прошел по спине. Он отвернулся от окна.
Барабанный бой за окном гремел два дня, выказывая прусскую мощь. На третий день в апартаментах Петра Андреевича объявился министр иностранных дел Фридриха-Вильгельма. Приседая и кланяясь, он поприветствовал российского дипломата и любезно пригласил присесть на тонконогий, затейливый диванчик. У министра короля был характерный немецкий, с запавшими губами, узкогубый рот, прозрачные голубые глаза и пухлые ручки, постоянно находившиеся в движении. Глядя наполненными склеротической влагой, приветливыми до приторности глазами на русского гостя, он торопливо и сбивчиво заговорил о новых усилиях короля по укреплению армии.