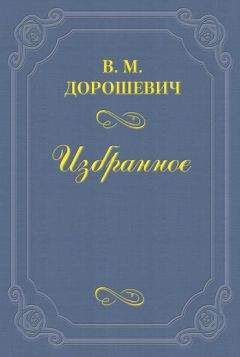Он вел прежнюю жизнь, с некоторыми уступками столичным условиям, и обедал уже не в 8 часов утра, а в 10 или 11, причем всегда бывали у него гости.
Обед состоял из четырех или пяти кушаньев, которые обыкновенно подавались в маленьких горшочках. В скоромные дни эти кушанья были: варенная с разными пряностями говядина, под названием «тушеной», щи из свежей или кислой капусты, иногда калмыцкая похлебка — башбармак, пельмени, каша из разных круп и жаркое из дичи или телятины. Весной, даже в скоромные дни, Александр Васильевич любил разварную щуку, под названием «щука с голубым пером». В постные дни: белые грибы, различно приготовленные, пироги с грибами, иногда щука с хреном.
Во дворце у государыни он бывал редко, в особенности избегал парадных обедов.
Узнав, что он ехал из Стрельни в одном мундире, Екатерина подарила ему соболью шубу, крытую зеленым бархатом, но Суворов брал ее с собой, только едучи во дворец, да и то держал на коленях и надевал, лишь выходя из кареты.
Обращение Александра Васильевича с императрицей было для придворных сфер необычайное, режущее глаза. Однажды на придворном балу государыня, обходя гостей и беседуя с ими, приблизилась к Суворову.
— Чем потчевать дорогого гостя? — спросила она.
— Благослови, царица, водочкой!.. — сказал, кланяясь, Суворов.
— А что скажут красавицы-фрейлины, которые будут с вами разговаривать? — заметила Екатерина.
— Они почувствуют, что с ними говорит солдат, — простодушно отвечал Александр Васильевич.
Императрица собственноручно подала ему рюмку тминной, его любимой.
Цесаревич Павел Петрович как-то пожелал его видеть. Суворов вошел к нему в кабинет и начал проказничать. Цесаревич этого терпеть не мог и тотчас остановил баловника, сказав ему:
— Мы и без этого понимаем друг друга.
Александр Васильевич сделался серьезен и по окончании делового разговора, выйдя из кабинета, побежал вприпрыжку по комнате, напевая:
— Prince adorable, despote implacable…
Это было, конечно, передано цесаревичу.
Принимая визиты от именитых и чиновных лиц, Суворов по-своему оказывал им разную степень внимания и уважения. Увидев в окно подъехавшую карету и узнав сидящее в ней лицо, он выскочил однажды из-за стола, сбежал к подъезду, вскочил в карету, когда лакей отворил дверцу, и просидел в ней несколько минут, беседуя с гостем, а затем поблагодарил его за честь, распрощался и ушел.
В другой раз, тоже во время обеда, при визите другого лица, Александр Васильевич не тронулся с места, приказав поставить около себя стул для вошедшего гостя.
— Вам еще рано кушать, прошу посидеть! — сказал он ему.
Начался разговор. Когда же гость откланялся, то Суворов не встал его проводить.
Его частым и любимым гостем продолжал быть Гавриил Романович Державин. Раз за обедом разговор зашел о смерти.
— Моя близка, ой как близка… — сказал Александр Васильевич и, обратясь к Державину, спросил его: — Какую вы мне напишете эпитафию?
— Я не переживу вас, ваше сиятельство.
— Ну а если… — добавил Суворов.
— Какая же вам нужна эпитафия!.. Я написал бы просто: «Здесь лежит Суворов».
— Помилуй бог, как хорошо!.. — воскликнул Александр Васильевич. — Помилуй бог, хорошо.
Он бросился обнимать и целовать певца Фелицы.
— Помилуй бог, как я люблю поэзию, тут язык богов… — сказал Суворов.
— Да вы сами поэт… — заметил Державин, намекая на то, что Александр Васильевич писал стихи.
— Нет, — ответил тот, — поэзия — это вдохновение, а я складываю только вирши.
В Петербурге Александр Васильевич пробыл недолго. Через несколько недель ему нашлось дело.
Императрица предложила ему съездить в Финляндию и осмотреть пограничные укрепления. Суворов с радостью согласился на это предложение.
Он много поработал над этим делом, в 1791 и 1792 годах, окончив главное и наметив подробности остальных работ, которые после него и продолжались по его мысли и планам. Он ехал смотреть на свое детище, и Екатерина понимала, что никто лучше его не мог оценить сделанное.
Он отсутствовал недолго, в половине декабря он уехал и вернулся к Рождеству, совершенно довольный всем найденным.
Вскоре по возвращении в Петербург он снова его оставил и отправился в Тульчин, где должен был сформировать армию из 100 000 человек.
Местечко Тульчин принадлежало графу Потоцкому. Прибыв на место своего назначения, фельдмаршал немедленно занялся приведением в исполнение возложенного на него поручения. Он поместился в нижнем этаже дома, принадлежащего графу Потоцкому. Он снова весь окунулся в привычную для него деятельность и ежедневно учил солдат по частям.
По субботам было общее учение и потом развод. Перед разводом фельдмаршал говорил солдатам поученья, оканчивавшиеся большею частью следующими словами:
— Безбожные, окаянные французишки убили своего царя. Их надобно проучить. Но они мастера драться, а потому и вам, ребята, должно хорошенько поучиться, чтобы не ударить лицом в грязь!..
Интересны, вообще, взгляды Александра Васильевича на происходившее в то время во Франции, высказанные им еще до отъезда из Петербурга.
Раз у него собралось много знатных эмигрантов, которые взапуски говорили о своих пожертвованиях в пользу несчастного короля. Суворов прослезился при воспоминании о добродетельном короле, падшем от злодейской руки своих подданных, и сказал:
— Жаль, что во Франции не было дворянства. Этот щит престола защитил в стрелецкий бунт нашего помазанника Божия.
Эмигранты закусили губы и замолчали. В другой раз одному иностранцу, горячему стороннику французской революции, Александр Васильевич сказал:
— Покажите мне хоть одного француза, которого бы революция сделала счастливым? При споре о том, какой образ правления лучше, надобно помнить, что руль нужен, а важнее рука, которая им управляет.
Вследствие этого Суворов считал войну с французами священной обязанностью всякого монархического правительства и с радостной надеждой ожидал окончания переговоров с Англией и выступления в поход.
Переговоры окончились. Начались спешные приготовления.
Вдруг…
Наступило 6 ноября 1796 года. Императрица Екатерина скончалась. На престол вступил ее сын — Павел Петрович, Это известие как громом поразило всю Россию и распространилось по ней с быстротой электрической искры.
На Александра Васильевича оно произвело прямо ошеломляющее впечатление. Получил он роковое известие в Тульчине 13 ноября. Во все время панихиды по в бозе почившей государыне он стоял на коленях и горько-горько плакал.
Кончина Екатерины II произвела не на одного Александра Васильевича потрясающее впечатление. В гвардии плакали. Рыдания раздавались и в публике по церквам.
В Петербурге дрожь всех пронимала, «и не от стужи, — замечает современник, — а в смысле эпидемии».
Наступающее новое время называли торжественно и громогласно «возрождением»; в приятельской беседе осторожно, вполголоса — «царством власти, силы и страха»; меж четырех глаз — «затмением света».
То же самое было всюду, хотя и не в такой степени, — отдаленность в этом случае много значила.
Не все имели пессимистический взгляд на будущее, и если мало насчитывалось поклонников Павла Петровича, то гораздо больше критиков Екатерины.
В Петербурге за Павла было ничтожное число гатчинцев. В Москве, этом, со времени Петра Великого, приюте недовольных настоящим положением, «умные люди» перешептывались, что «в последние годы, от оскудения бдительности, темные пятна везде пробивались через мерцание славы». В простом народе перемена царствования произвела радость, потому что время Екатерины было для него чрезвычайно тяжело.
С первых же дней нового царствования произошла перемена внутренней и внешней политики. Прекращена война с Персией, а также оставлены приготовления к войне против Франции.
Для Александра Васильевича это было жестоким ударом. Он не переставал оплакивать кончину великой Екатерины, говоря всем:
— Без матушки-царицы не видать бы мне Кинбурна, Рымника, Измаила и Варшавы.
Лишенный надежды на близкую войну, он был постоянно не в духе. Преобразования по военной части, начатые тотчас же по воцарении Павла Петровича, нашли в нем открытого и неосторожного порицателя.
— Русские прусских всегда бивали, — говорил он, — что же тут перенять… Я лучше прусского короля, я, милостью Божиею, баталии не проигрывал… Солдаты невеселы, унылы, разводы скучны, шаг уменьшают в 3/4 и так на неприятеля, вместо 40–30 верст… Я пахарь в Кобрине лучше, нежели только инспектор, каковым и был подполковником.
Получив в войска палочки для измерения кос, Суворов отозвался:
— Пудра не порох, букли не пушка, коса не тесак, я не немец — природный русак