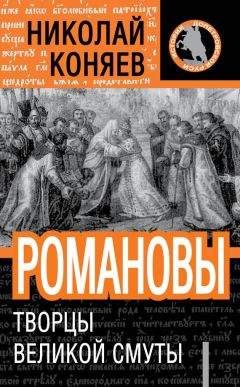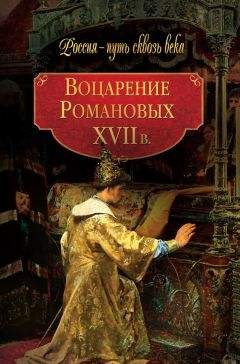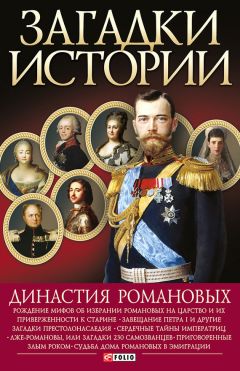— Ну, ну! А я говорю — измором брать! А созвал я вас на то, чтобы князю место указать! — решительно сказал Шеин.
Все смолкли.
— По мне, стать ему станом на Покровской горе, — решил Шеин. — Ты, Артемий Васильевич, укажи место.
Крепость Смоленск, против поляков укрепленная еще Борисом Годуновым, была по тому времени одною из сильнейших крепостей. Боярин Шеин, сдавший ее в Смутное время полякам, знал ее силу и потому избегал бесполезного штурма, решив вести правильную осаду. Она стояла на берегу Днепра, и Шеин прежде всего занял оба берега. Прямо пред воротами крепости, у моста, на высотах он поставил Матиссона с сильным войском, на северо-западе стал сам с Измайловым, на северо-востоке поставил Прозоровского, занявшего Покровскую гору, а вокруг с южной стороны широким полукругом расставил станы под начальством Лесли и Дамма и приказал оттуда громить стену из пушек. С каждым днем он суживал и суживал осадное кольцо, зорко оберегая крепость от посторонней помощи, и жителям Смоленска приходилось все тяжелее.
— Знаю, что делаю! Знаю, что делаю! — хвастливо и упорно твердил Шеин, когда все советовали ему идти на приступ. — Приступу будет время!
Страшные холода мучили и изнуряли войско. Осада едва ли не тяжелее, чем для поляков, была для русских, но Шеин продолжал упорствовать в своем плане.
Теряев и его молодые товарищи бездействовали и роптали.
— Доколе, — жаловались они Прозоровскому, — нам без всякого дела быть?
— А вот подождите, — усмехался он, — приедет король с поляками!
И действительно, всем казалось, что Шеин словно нарочно медлил с окончательным приступом, потому что обороны крепости уже нечего было бояться.
Тихо, строго и чинно было в Вознесенском монастыре. Временно смирилась мать Михаила, Марфа (игуменья Ксения). Поняла она, что не под силу ей бороться с Филаретом Никитичем, и отступилась с наружным смирением от власти. Ее друг и наперсница, старица Евникия, томилась в Суздальском монастыре, и государыня редко получала о ней весточки.
Все, кто прежде приходил к ней на поклон и простого царского приказа не слушался без ее благословения, перешли на сторону патриарха. Только князь Черкасский еще прямил ей, да хитрый Шереметев нет-нет да и навещал ее в ее келье.
— Ой, не лукавь ты, Федор Иванович, — говорила Ксения, — что тебе во мне, смиренной?
А он бил ей челом и со вздохом говорил:
— Счастье и мир ушли с тобою. Больно тяжела рука у владыки! Гляди, все стонут. Одним монастырским житье, а прочие волком воют. Не две, а четыре шкуры дерут: и с сохи, и с общины, и за соль, и за дорогу, и палубные, и за водопой. Больно уж строг владыка!
Слаще меда были такие речи для Ксении, но, опустив глаза вниз, она смиренно говорила:
— Отошла я от дел мирских. Ему лучше они ведомы.
Тем не менее стороною она всегда узнавала про дела государские и в душе таила воспоминания о былой власти. И теперь, когда царь приехал к ней тих и светел лицом и, земно поклонившись, поцеловался с нею, она знала уже государевы новости.
— Отчего ты светел так? — спросила она царя.
— Радость велика, матушка,-ответил царь, — кругом врагов одоление. Боярин Шеин и князь Прозоровский уже под Смоленск пришли. Слышь, и Дорогобуж отвоевали, и Белую, и Серпейск, и Почеп, и Невель.
— Пошли Бог, пошли Бог! — тихо сказала Ксения, перебирая четки.
— А ныне пишут, что их воеводу Гонсевского отбили.
— Радость, радость, — сказала Ксения, — завтра закажу молебствие отслужить Владычице. Наши молитвы тоже, может, до Нее, Царицы Небесной, дойдут. А ты бы с царицею нас пожаловал, помолился бы вместе!…
— Непременно, матушка!
— А то совсем забыли меня. На смех Филарет Никитич меня в сане возвеличил, а всю радость отнял у меня: и сына любимого, и дружбу рабскую.
Лицо Михаила покраснело, он потупился, а Ксения, подняв на него свой блестящий взор, продолжала:
— Теперь ты хоть ради радости милость мне оказал бы. Верни мне Евникию! Что тебе в ее немощи! А мне она — утеха велия. И за что казнишь ее? Что она — мать Бориске да Михаиле? Так они тебе, как ты, служили и за тебя кару приняли. Не любы были отцу твоему твои други. Оставил он тебя одного и над тобой верх взял. Млад ты был тогда, а теперь муж. Покажи им мощь свою!
Голос Ксении все крепчал; глаза ее горели живым огнем. Царь снова подчинился ее власти и подумал: «Что же, и правда. Велики ли беды Салтыковых? Может, и впрямь о Хлоповой как о порченой думали, меня же ради. А мать их и ни при чем. Крут батюшка!»
Он поднял голову, и в глазах его сверкнула решимость.
— Ладно, матушка, — сказал он вставая, — сделаю, как ты хочешь. Ради старости верну Евникию тебе в утешение и Михалку с Бориской ворочу. Жди!
Лицо Ксении осветилось торжеством.
— Узнаю царя! — сказала она в ответ. — Спасибо тебе, сынок, на утешении! — И она поясно поклонилась сыну.
Тот упал ей в ноги.
— Прости, матушка!
Ксения проводила его во двор монастыря и вернулась бодрая и радостная в свою келью. Михаил сказал Шереметеву, вернувшись из монастыря:
— Хочу добрым делом добрые вести отметить. Напиши указ, по которому я прощаю вины братьям Салтыковым и ко дворцу ворочаю, и чтобы мать их из Суздаля назад в Вознесенский перевели!
Шереметев поясно поклонился, а у дьяка Онуфрия затряслись руки при таком приказе.
— А как же владыка? — пролепетал он, но Шереметев только грозно повел на него очами.
На другой день отстоял царь раннюю обедню и прошел в свой деловой покой до отъезда в Вознесенский монастырь дела послушать, вдруг в этот покой вошел Филарет не по чину быстро.
Михаил спешно вскочил и упал ему в ноги. Патриарх благословил его и затем, принимая из рук своего боярина свиток, протянул его царю и сухо сказал:
— Это нельзя!
Царь смутился.
— Прости, отче, меня просила матушка, и я обещал ей на радостях!
— Нельзя! — проговорил патриарх. — Воры и прелестники не могут вернуться к престолу Мы не ложно судили! Слово государево должно быть твердо, иначе где ему вера! Милости его велики, но и гнев его страшен! Иначе что? Баловство! Скажут: ради меня казнили, ради нее простили! Нет моего благословения, нет!
Он кинул свиток на стол.
Царь беспомощно опустил голову.
Филарет снова заговорил:
— Прости их, верни их, и они затеют крамолу. Не будет покоя у твоего трона. Опять произвол. Ксения ищет смуты не по сану своему. Ты хотел к ней в монастырь ехать?
— Молебствие за победы она служить заказала, — только ответил царь.
— Не надо! Свою опалу показать ей надо. Кто есть? — обернулся патриарх к своему боярину.
Тот выбежал и тотчас вернулся назад.
— Окольничий князь Теряев!
— Зови! А ты наказ дай! — предложил Филарет царю.
Князь Теряев вошел и отбил поклоны. Царь обернул к нему побледневшее лицо и сказал:
— Иди в Вознесенский монастырь. Скажи нашей матушке: быть не можем… недужится!
Теряев вышел.
Ксения готовилась к торжественной встрече царя. Далеко были высланы служки, чтобы издали заметить царский поезд; но время шло, а поезда все не было видно. Ксения волновалась. Ударили по церквам к обедне, а царя не было, и Ксения делалась все беспокойнее.
«Неужели и тут Филарет поперек стал, прознал про его обещание и удержал?»
Горькая усмешка сжала ей губы. Крут и властен патриарх, но она поборется с ним!… Вдруг появился служка с докладом:
— Едет, мать игуменья!
Ксения встрепенулась.
— Звоните в колокола!…
— Не царь, а посол царский!…
Лицо Ксении побледнело.
Через несколько минут пред нею стоял царский окольничий, князь Теряев, с царской оговоркою, что за недугом легким на молебствии царь-батюшка быть не может.
А спустя какой-нибудь час от Филарета принесли свиток и в нем строгий наказ, чтобы в дела государские она, Ксения, не совалась.
«То не бабьего ума дело. Ежели же тебе и за молитвами досуга много, то есть дальние обители, где смятенному духу для размышлений вельми укладно будет».
Потемнела как туча Ксения и… смирилась…
В тот же вечер был у нее князь Черкасский и тяжко вздыхал, сочувствуя ей.
— А теперь, ежели его ставленник Смоленск возьмет, еще круче повернет владыка! — сетовал он.
Действительно, владычество Филарета приходилось всем в тягость, хотя и было оно во славу родины. Слишком тяжкими поборами обложил патриарх все сословия, особенно крестьян и посадских. Светские люди жаловались на духовенство, которое, напротив, пользовалось всякими льготами; но роптало, в свою очередь, и духовенство, в личной расправе с которым Филарет был беспощаден. Не только попов, но даже архиереев учил он свои жезлом, и нередко до крови.
Тяжко было и малодушному Михаилу, которому Филарет оставил охоту, богомолье да теремные дела. Все писалось от имени Михаила — и приказы, и наказы, но ничего не решал он сам, без патриаршего слова и указа.