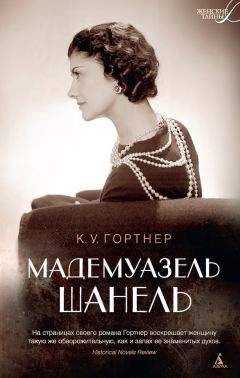На ежегодном роскошном маскараде, устроенном графом де Громоном, Скьяпарелли явилась в сари из набивной ткани с рыбами и в высоком, а-ля маркиза де Помпадур, парике, увешанном побрякушками в форме каких-то земноводных тварей. Я еще ни разу не видела ее так близко и сразу отметила длинное лицо и воловьи глаза. Под ручку с ней стоял не кто-нибудь, а сам Сальвадор Дали, усатый испанский художник, а рядом его русская жена Гала; она хмурила брови и бросала по сторонам недобрые взгляды.
Я с головы до ног была одета в белый шелк. Загорелая во время отдыха на Ривьере. Волосы мягкими волнами обрамляли лицо, на шее, как всегда, нитка жемчуга. Я подошла к ним, чтобы познакомиться. Скьяпа, как звали ее друзья, казалось, была озадачена. Дали пробормотал: «Какая честь, у меня нет слов». Да и бог с ним, я улыбалась только Скьяпе.
— Давайте докажем всем, что нам ни к чему ссориться на людях? — предложила я и пригласила ее на танец.
Как и всякая эксгибиционистка, она была рада-радешенька. Балы, которые давали Громоны, славились либеральностью, мужчины приходили в нарядах Марии-Антуанетты, а женщины выряжались Гитлером, даже усики такие же наклеивали. Скьяпа с восторгом приняла мой вызов, и я повела ее в танце по заполненному народом танцполу, подвигаясь все ближе к горевшим по углам восковым свечкам. Ее застывшая улыбка была обращена не ко мне, а к толпе, загипнотизированной нашим танцем.
И пламя свечи лизнуло край ее сари. Я ахнула и отпрыгнула в сторону. Взволнованные гости окружили Скьяпарелли толпой и принялись поливать содовой, пока ее наряд не промок насквозь, превратившись в тряпку. По щекам Скьяпарелли растекалась черная тушь, а сама она только злобно сверкала на меня взглядом сквозь отклеившиеся искусственные ресницы.
— Теперь вы навсегда запомните, — проговорила я тихо, так чтобы слышала только она, — что и малым можно достигнуть многого.
И тут раздался громкий смех, похожий на хриплое карканье вороны, и все повернули голову. За одним из столиков, вцепившись в край своего стула, сидел и оглушительно гоготал Сальвадор Дали.
Наши взгляды встретились, и я ему подмигнула.
* * *Весной 1936 года на выборах во Франции победила левая коалиция, Народный фронт. Новый премьер, лидер социалистической партии, был евреем, и все газеты сразу завопили: «Франция под пятой евреев!»
После смерти Ириба я совсем перестала интересоваться политикой. Слышала, как и многие, и читала в газетах (как немногие) о том, что Гитлер мертвой хваткой вцепился в Германию, подмял ее под себя, о его речах, в которых он обличал марксизм и страшную еврейскую чуму, обрушившуюся на Европу, но внимания на это почти не обращала.
Но это длилось не очень долго. Беспорядки скоро достигли своей цели. Весной рабочий класс объявил самую крупную забастовку, Франция такой еще не видела, все бросали работу и толпами валили на улицы. Зараза распространялась все шире. Однажды утром я, направляясь к своему ателье, пересекла Вандомскую площадь и увидела, что вход в ателье перекрыт, швеи и продавщицы заблокировали двери и под вспышки фотокамер позируют перед репортерами. Внутрь меня не пустили, отказались открыть двери, все скандировали какой-то дурацкий лозунг, который долго еще звенел в моих ушах, а обрадованные репортеры набросились уже на меня. Я бежала обратно в «Риц», в ярости позвонила своему адвокату, пригрозив уволить всех поголовно.
Рене посоветовал не психовать и вести себя осторожней. Потерпев фиаско с Вертхаймерами, он призывал к сдержанности, предлагал устроить встречу с работницами, чтобы выслушать их жалобы.
— Какая встреча?! — вскричала я. — Да я просто закрою ателье, и все. Я всю жизнь работала как вол, чтобы получить все, что имею. С какой стати я стану отдавать им то, что они не заработали?
С таким же успехом можно было бы кричать в пустыне. Прошло несколько дней забастовки, новый премьер-министр подписал соглашение, уступив рабочим по всем пунктам их требований, как я и предсказывала. Народ высыпал на улицы праздновать победу. Будучи отрезанной от моего собственного ателье, я уволила триста человек персонала. Уволила бы еще больше, если бы Рене не посоветовал смягчиться, иначе моему бизнесу будет нанесен непоправимый ущерб. Другие модельеры, отказавшиеся подчиниться закону, придя на работу, нашли свои ателье пустыми.
Я послушалась Рене, поскольку другого выбора у меня не было. Но я еще более ужесточила строгие правила, в течение тридцати лет обеспечивавшие мне успех. Всем, кто остался работать, я довела до сведения, что за малейшее нарушение, малейшее опоздание или нерадивость я буду строго взыскивать.
Достаточно я их баловала. Теперь не будет никаких поблажек.
* * *1937 год стремительно сменился 1938-м.
«Ла Пауза» стала моей тихой гаванью, заменила мне вечерний прием седола, седативного препарата. Бессонница вернулась ко мне еще в более сильной форме, и теперь я уже не могла уснуть, не приняв дозу. Мися сопровождала меня в тайных поездках в Швейцарию, где можно было купить наркотики без рецепта. Я отказывалась признавать зависимость, даже когда своими глазами увидела ужасающие результаты этой пагубной привычки: юная любовница Жожо Серта погибла от прогрессирующего туберкулеза, вызванного рабской зависимостью от морфина.
Растущий страх перед экономической нестабильностью побуждал богатых людей переводить свои активы в другие страны, Банк Франции терял миллионы, а Народному фронту это угрожало потерей власти. В Испании жестокая гражданская война привела к исходу за границу многих тысяч беженцев; в Англии король Эдуард отрекся от престола, чтобы вступить в брак с разведенной Уоллис Симпсон. Я послала этой блистательной паре подарок, а Черчиллю письмо, в котором пыталась утешить его, поскольку именно он составлял проект речи об отречении и очень горевал по этому поводу, и пригласила приехать на отдых в «Ла Паузу».
В «Ла Паузе» в то последнее лето Черчилль пребывал в мрачном, меланхолическом настроении, которое он называл «тоска зеленая», и единственное утешение находил в писательстве и акварельной живописи. За этими занятиями он провел на моей вилле не одну неделю, а мы с его женой всячески заботились, чтобы ему никто не мешал, и качали головой, рассуждая о романе короля с этой Симпсон, поставившем всю Англию на уши. Перед самым отъездом Черчилль подошел ко мне и отвел в сторонку:
— Советую вам как можно скорее покинуть Европу, Коко. Боюсь, не сегодня завтра разразится война.
Но как и весь остальной мир, я не приняла его предостережения во внимание.
Как же мы допустили столь ужасную катастрофу? В общем-то, тут все довольно просто. Так часто бывает: ждешь опасность с парадного входа, а она подкрадывается через задний — и ни одна душа, кроме Черчилля, этого не видела.
Весенний сезон 1939 года снова явился свидетелем нашей со Скьяпарелли открытой, достигшей апогея дуэли. В ее коллекции платьев из тканей с лицами в профиль и прозрачными бабочками преобладали оттенки желтого, как сера, и лилового, как слива, и все это венчалось монументальными шляпами из плотного шелка. Я же противопоставила ей платья из набивной ткани с камелиями, вечерние наряды, навеянные цыганскими мотивами, и дерзко окрашенные во французский триколор, а также ряд моделей прет-а-порте, куда входили укороченные жакеты с заглаженными складками, блузки с оборками и широкие брюки из твида; все модели были представлены также и для миниатюрных женщин.
В сентябре Гитлер вторгся в Польшу. Мы сидели в «Ла Паузе» и, совершенно ошеломленные, слушали по радио новости. Мися отчаянно простонала и пустила слезу, очень переживая за свою историческую родину. В связи с угрозой со стороны Германии в стране была объявлена всеобщая мобилизация. А уже совсем скоро, сразу после моего возвращения в «Риц», я получила телеграмму от племянника Андре, жившего в Лембеи, неподалеку от Пиренеев. Там я купила ему дом, после того как обострились его хронические проблемы с бронхами. Несмотря на слабое здоровье, Андре призвали на военную службу. И он хотел поручить мне заботу о жене Катарине и дочери.
Держа телеграмму в руке, я повернулась к Мисе:
— Думаю, пора закрывать ателье.
Прежде я ни разу не высказывала этой мысли вслух, но, произнеся эти слова, сразу осознала, что глубоко в моей душе это решение уже давно вызревало, еще со времени забастовки, которая вынудила меня уступить своим работницам. Денег у меня хватает. Я скопила гораздо больше, чем потратила, умеренность и бережливость присущи были мне с самого детства, и теперь я не могла избавиться от чувства, что настало время отойти от дел. Привыкать к новой жизни, конечно, будет нелегко, я в этом не сомневалась, возможно, я даже пожалею о своем решении, но в свете происходящих вокруг ужасных событий это даже вызовет сенсацию, станет очевидным и ясным жестом солидарности с моей страной, которая готовилась к вооруженному конфликту. И снова война предоставляла мне возможность принимать решение. Только на этот раз я не стану наживать деньги: я уйду с высоко поднятой головой, отказавшись от борьбы, которая вдруг показалась мне совершенно бессмысленной.