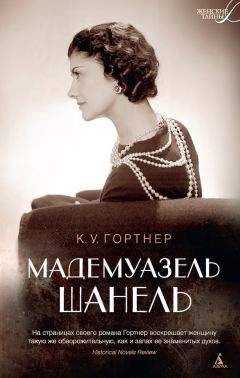Держа телеграмму в руке, я повернулась к Мисе:
— Думаю, пора закрывать ателье.
Прежде я ни разу не высказывала этой мысли вслух, но, произнеся эти слова, сразу осознала, что глубоко в моей душе это решение уже давно вызревало, еще со времени забастовки, которая вынудила меня уступить своим работницам. Денег у меня хватает. Я скопила гораздо больше, чем потратила, умеренность и бережливость присущи были мне с самого детства, и теперь я не могла избавиться от чувства, что настало время отойти от дел. Привыкать к новой жизни, конечно, будет нелегко, я в этом не сомневалась, возможно, я даже пожалею о своем решении, но в свете происходящих вокруг ужасных событий это даже вызовет сенсацию, станет очевидным и ясным жестом солидарности с моей страной, которая готовилась к вооруженному конфликту. И снова война предоставляла мне возможность принимать решение. Только на этот раз я не стану наживать деньги: я уйду с высоко поднятой головой, отказавшись от борьбы, которая вдруг показалась мне совершенно бессмысленной.
— Неужели ты это сделаешь?
Мися смотрела на меня ввалившимися глазами. Я ждала, что она сейчас разразится скептическим смехом. После всех этих долгих лет как я могла даже подумать о таком, а уж тем более рассматривать такую идею положительно? Но ее несчастное лицо и последовавшее молчание лишь отразили то, что чувствовала я. Она уже не протестовала, как бывало прежде в аналогичных случаях. Мы пережили одну войну и остались живы, но на этот раз у нас обеих было такое чувство, что теперь все будет по-другому. Беспощадная расправа Гитлера с бедной Польшей и безжалостное продвижение его армий по всей Европе — все это наводило на размышления о том, что нас ждут мрачные времена и надо готовиться к германской агрессии. Загнанная силами союзников во время Первой мировой войны в угол, поставленная мирным договором на колени, Германия жаждет мести.
— Сейчас не время для моды, — сказала я. — После этого никто из нас больше не сможет шить модных платьев.
Знала ли я, что за сила на нас надвигается? Мне казалось, что знала. Но я была единственным модельером в Париже, собравшим весь персонал и сообщившим о своем решении. Ателье на улице Камбон, а также магазины в Биаррице, Довиле и Каннах закрываются на неопределенный срок. Я буду продолжать продажу духов и украшений, но не более того. Для этой цели я оставляю небольшой штат сотрудников; остальные к концу недели должны уйти. Возмущенные работницы были убеждены, что таким образом я мщу им за неповиновение во время забастовки, и обратились в трудовой комитет. Президент Chambre Syndicale[45] Люсьен Лелонг, курировавший предприятия, выпускающие модную одежду, и сам известный модельер, пригласил меня на ланч и попытался убедить, чтобы я не закрывала ателье и мастерские. Он надеялся, что, как и во время Первой мировой войны, от нас потребуют организации благотворительных показов, а возможно, даже проектирования образцов военной формы.
Я пренебрежительно фыркнула:
— Модные мундиры для солдат, что ли? Сомневаюсь, что свастика будет подходящим аксессуаром.
Может быть, мотивом моих действий было что-то еще, нечто невыразимое — горькое жизненное разочарование, утрата иллюзий. Внезапная смерть Ириба, соперничество со Скьяпарелли, еще один надвигающийся конфликт, который принудит меня бороться, в то время как весь мир будет лететь в тартарары. Возможно, все это вконец измотало меня, лишило моего неослабевающего внутреннего стимула.
Ночью, оставшись одна в номере «Рица», я курила, смотрела в окно на площадь и улицы далеко внизу, на затемненные окна на случай воздушных налетов. Хотя германские войска совсем недавно вторглись в Данию и Норвегию, жизнь вокруг все еще продолжалась, мой друг Лифарь танцевал в «Русском балете», кабаре, бары и рестораны жили полной жизнью и процветали. Я закрыла свое ателье, но Париж оставался открытым городом, и жизнь в нем била ключом. У людей с положением в обществе забирали в армию слуг, родственников, они спешно кутали своих детей в теплую одежду и отправляли в деревню, где было безопасно, прятали ценные вещи в сейфы и переезжали жить в номера отелей, которые при случае легко покинуть. Воспоминания о прошлой войне пронизывали все наше существование. Только сейчас преследующие нас дежавю были какие-то худосочные, и мы покорно ожидали неизбежного. Большинство моих близких друзей, таких как Кокто и Мися, заявляли, что Париж они не покинут ни за какие коврижки. В конце концов, и раньше немцы никогда не вторгались в этот город. Я разделяла их чувство, даже если оно все больше смахивало на отчаяние, а не на пренебрежение опасностью.
Тем не менее я сомневалась в своей правоте. Может, внезапно закрыв ателье, я просто поддалась минутному порыву? Может, это ошибка? Была ли я первой, кто капитулировал в борьбе? Не случилось ли так, что я сдалась прежде, чем все началось?
Только время рассудит нас, думала я, вернувшись в свой гостиничный номер. Я поднялась по невысокой лестнице, ведущей в спальню, расположенную в мансарде, строгую, как келья монашенки. Я заплатила деньги за то, чтобы мне устроили это тихое местечко, где можно отдохнуть, где нет никаких звуков, кроме тикающих часов Боя, которые я добросовестно завожу каждый день. Уютно устроившись в постели, я уплыла мыслями в прошлое, к своей юности в Мулене, Виши и Руайо, оживляя в памяти свое безумное стремление куда-то бежать, видела перед собой свои первые, еще довольно аляповатые шляпки, вспоминала свое разочарование и компромисс, который я заключила с совестью, и, наконец, минуту, когда Бой в первый раз взял меня за руку.
Он был все еще здесь, со мной, ощутимый, реальный, я видела его темно-зеленые глаза, теплый взгляд, его густые волосы, падающие на лицо, когда он склонялся ко мне, благоухающий мускусом сатир, и шептал: «Помни, Коко, ты всего лишь женщина…»
И в первый раз за много лет я уснула без седола.
* * *Меня разбудил громкий стук в дверь и одновременно настойчивый трезвон телефона. Я подскочила на кровати. Кое-как спустилась вниз, схватила телефонную трубку; на другом конце провода была Мися.
— Коко… — лепетала она, запинаясь как безумная, — Коко, они… они входят в Париж, Коко! Немцы… Они входят, их много! Ты немедленно должна возвращаться домой. Мы спрячемся и…
— Мися, успокойся, — перебила я ее, потому что за последние несколько недель она уже несколько раз звонила мне с такими же точно жуткими предсказаниями. — Я перезвоню. Кто-то стучит в дверь.
На пороге номера стоял метрдотель, он виновато наклонил голову и выложил ужасную новость с таким видом, будто извинялся, что в гостинице временно отключили горячую воду.
— Мадемуазель, боюсь, я должен сообщить вам, что наша оборона прорвана. По радио сообщают, что германские танковые дивизии пересекли Арденны и походным маршем идут на столицу; нам грозит опасность ударов с воздуха силами люфтваффе. Метро закрывается. Герр Эльмингер посоветовал мне проинформировать всех постояльцев, что закрывать отель мы пока не планируем и сделаем все, чтобы обеспечить вас самым необходимым, но безопасности гарантировать уже не можем никому.
Я знала, что директор, уже давно занимающий эту должность, сейчас служит в армии; его заместитель герр Эльмингер был гражданином Швейцарии, он старался использовать хваленый нейтралитет своей страны, чтобы гостиница в сто пятьдесят номеров, оплот Парижа, содержалась как можно более спокойно, без эксцессов. И если он рекомендует чуть ли не эвакуацию, значит ситуация действительно серьезная. Похоже, на этот раз Мися не преувеличила грозящей нам опасности.
— Сколько у нас осталось времени? — спросила я, думая об ателье через площадь, о квартире, заваленной произведениями искусства, после того как я освободила дом на Сент-Оноре. Бесценные статуи, антиквариат, мои платья и прочие обломки моей скитальческой жизни. Забрать хоть что-то с собой невозможно, но как оставить: немецкие мародеры могут разграбить все. При этой мысли грудь мою сдавило точно тисками.
— Думаю, совсем мало, — ответил он. — Лично я посоветовал бы съезжать, и чем раньше, тем лучше, мадемуазель. Многие наши постояльцы уже съезжают. По слухам, дороги, ведущие из города, уже забиты беженцами.
— Да, конечно… — Я помолчала, пытаясь собраться с мыслями. — Я бы хотела заплатить вперед за два месяца, чтобы мой номер остался за мной на случай… если все обернется иначе. Это можно устроить?
Он кивнул:
— Сделаем все, что в наших силах, если только нацисты не забронируют номера.
Я чуть не рассмеялась: ну и шутник!
— И еще мне нужен шофер, — сказала я, — если, конечно, это возможно. Заплачу, сколько скажете. И вот что… пришлите, пожалуйста, горничную, пусть поможет собрать вещи.
Он откланялся и ушел, а я, все еще не придя в себя, окинула взглядом свой номер. Меня словно парализовало, я не могла решить, что делать дальше. Я была в одной пижаме, босиком, кулаки сжимались и разжимались сами собой, совершенно растерянная, как и в тот день, когда мы добрались до ворот Обазина.