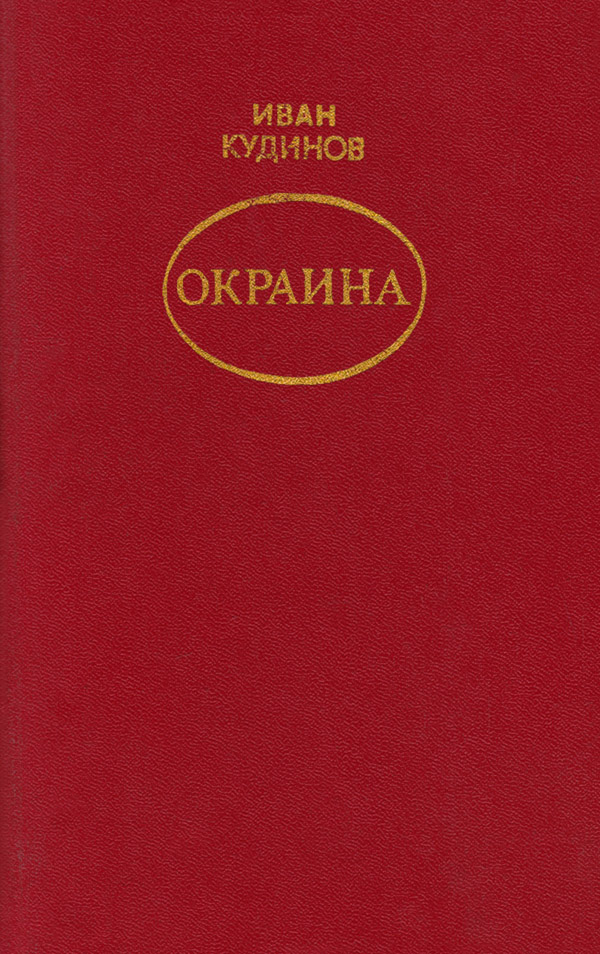улыбнулся Потанин. — Под одним небом ходим, на одной земле живем.
— Ишь, мудреный какой. Земля-то одна, да местов на ней всяких много. Вот я, например, с-под Саратова, — сказал человек, лет тридцати, скуластый, курчавый, смоляные брови вразлет, что-то цыганское в облике, плутовато-нахальное. — А вон тот, — кивнул на щуплого, худого мужичонку, сидевшего в углу, на нарах, — тот с-под Можайска. Слыхали? Дед у него, можно сказать, герой Бородинского сражения, фельдмаршала Кутузова видел и разговаривал с ним, как вот я с тобой разговариваю, заслуженный дед… Отец в Старо-Никольском соборе причетником служил, а сын вот нары протирает… Ха-ха!.. — клокотало у него в груди от смеха. — Ну, а ты откуда?
— А я из Сибири.
Кто-то присвистнул, недоверчиво хмыкнул.
— Мели Емеля…
Курчавый насупил брови, недобро поглядывал:
— Тут у нас врать не принято, за грех почитается…
— А я не вру: из Сибири. Слыхали о таких краях?
— Слыхать-то слыхали, да бог миловал, не доводилось бывать. А ты как же оттуда вырвался, помилование вышло?
— Помилование… — усмехнулся Потанин. Вид у него был усталый, долгий переход давал о себе знать. И курчавый вдруг, меняя тон, распорядился:
— Все. Ша! Человек с дороги, дайте отдохнуть. Эй, Парамошка! — скомандовал. — Расстарайся-ка чаю. Да живо!
Потанина угостили чаем, приправив его цикорием.
Камера с одним оконцем и толстыми каменными стенами напоминала склеп, еще и солнце не зашло, а в каменной норе уже темно. Впрочем, Потанина это не удивляет — за три года в Омском остроге он всякое повидал…
После ужина — вечерняя поверка. Запираются крепостные ворота. Отбой. Но в камере долго еще не спят. Рассказывают всякие небылицы, спорят. Парамошка, который угощал Потанина чаем с цикорием, яростно доказывал кому-то, что миллион рублей ни за что не пропить за год… Все хохочут. Оппонент Парамошкин, мужичок «с-под Можайска», видать, опытный спорщик и опровергатель, спокойно твердит:
— А ты мне дай, дай этот мильон! Ты мне его дай, я тебе не то што за год, за полгода его ухайдакаю, спущу все до последней копейки…
— Да ни в жисть! — горячится Парамошка.
— А ты мне его дай, дай, мильон… Где он?
Но вот начинают укладываться. Пора. Нары, устроенные вдоль грязных, сто лет не мытых и не беленных стен, называют «мызой», они покрыты тюфяками, и размещаются на этих тюфяках «аристократы» во главе с Курчавым, который свой тюфяк даже простыней застилает… Потанин выжидательно оглядывается, не зная еще, где ему занять место, куда лечь. И в этот момент Курчавый вдруг объявляет:
— Парамошка, брысь на нижний этаж!.. А ты, сибиряк, ложись рядом со мной.
На «нижний этаж» — значит, под нары. Парамошка беспрекословно подчиняется, кряхтя, сползает вниз, укладывается там, затихает вроде, но через минуту неуступчиво и упрямо говорит:
— А все ж таки миллиона за год не пропить. Ни за что!..
На рассвете барабан бьет зарю. Подъем. Суета, возня, ругань. Едва успели одеться, как раздается свисток и команда дежурного унтера:
— Становись на поверку, дворяне! Живо.
После завтрака — на работу: бить щебень, таскать песок, мять глину… И хоть Федор Силыч Тягунов, самолучший омский кузнец, добрая душа, подогнал, надел кандалы так, что они не жали и не терли, к концу дня ноги становились чугунными, гудело усталое, измордованное тело… Добраться бы до своей «мызы» и упасть на тюфяк. А ночи коротки — не успеешь глаз сомкнуть, как барабан уже бьет зарю. И насмешливо-властный голос дежурного звучит над ухом: «Становись на поверку, дворяне!»
Это были первые дни. Впереди еще пять лет — почти две тысячи таких дней, половину из которых ему предстояло жить, не снимая кандалов…
А где-то посреди России брел в эти дни этап, сопровождаемый солдатами из инвалидных рот. Солдаты уставали не меньше арестантов и рады были всякому селению, где можно отдохнуть, испить свежей водицы, а то и холодного погребного квасу, которым угощали этапных добросердные селяне, чаще это были молодайки в цветастых сарафанах, повязанные платками по самые брови… Деревянный ковш ходил по рукам, ведерко мигом опорожнялось. А там, глядишь, и еще добрая душа объявится. И настроение вмиг поднимается.
— Нет, братцы, пока мы в России, пропасть не дадут.
Отдохнувшие, повеселевшие этапники двигались дальше. Сухая белесая пыль вздымалась над дорогой, долго не рассеивалась. Ядринцев подходил к одной из телег, на которой сидел заболевший Шашков, лицо Серафима пожелтело, сухо блестели глаза.
— Ну, как ты? — участливо спрашивал Ядринцев. Серафим слабо махал рукой:
— Ничего. До места бы поскорее…
Добрались до Костромы. Но здесь им не повезло: произошла путаница с документами; кажется, их и вовсе утеряли, и этап задержали на три недели, поместив в острог.
— Может, и к лучшему? — говорил Ядринцев Серафиму. — Отлежишься немного, отдохнешь. Доктора пригласим. — И погрустнел. — Вот Щукин совсем плох. По-моему, он и себя не узнает, не только окружающих…
Щукин высох, почернел еще больше, лицо приобрело землистый оттенок, ходил он, сгорбившись, разговаривая сам с собой. Ядринцев встретил его, слепо шедшего по острожному двору, хотел пройти незаметно, передумал и окликнул:
— Николай Семеныч!
Щукин вздрогнул, остановился, глядя на Ядринцева мутными, воспаленными, глазами; в одной руке на цепочке он держал старую кадильницу, непонятно где и зачем раздобытую, в другой — связку четок и пучок зеленого лука.
— Николай Семеныч… — сказал Ядринцев и умолк, не зная, о чем говорить. — А я только что Серафима видел. Он болен… — Щукин смотрел удивленно, не понимая. Ядринцев тронул его за руку. — Николай Семеныч… Напрасно ты поддался такому настроению. Вспомни, как все было. Вспомни, как ты впервые приехал в Томск… Какой пример нам подавал! Учил нас, молодых, мужеству… — говорил, говорил Ядринцев, точно сквозь дебри слов пытаясь продраться к сознанию Щукина. — Помнишь?
Щукин тряхнул кадильницей, переступив с ноги на ногу, и на лице его отразилось нетерпение, даже испуг, он резко повернулся и пошел, потом остановился, точно вспомнив что-то, и посмотрел на Ядринцева долгим, как будто осмысленным взглядом. Лицо его исказилось болью, каким-то внутренним страданием, и он торопливо пошел, почти побежал прочь, но вдруг снова остановился, обернулся и сдавленным, хриплым голосом проговорил:
— Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а себя потеряет, душе своей повредит? Какая польза от того, что ты идешь? — отчетливо он спросил и засмеялся, смех его был жуткий. — Куда идешь, зачем? Ну, иди, иди, ищи свое стадо… Ха-ха-ха!.. Стадо. Все мы овцы безмозглые… овцы, овцы, а считаем себя людьми… Ха-ха-ха! — не то смеялся, не то рыдал он, удаляясь, звеня кадильницей, роняя в пыль зеленые перья лука, спина