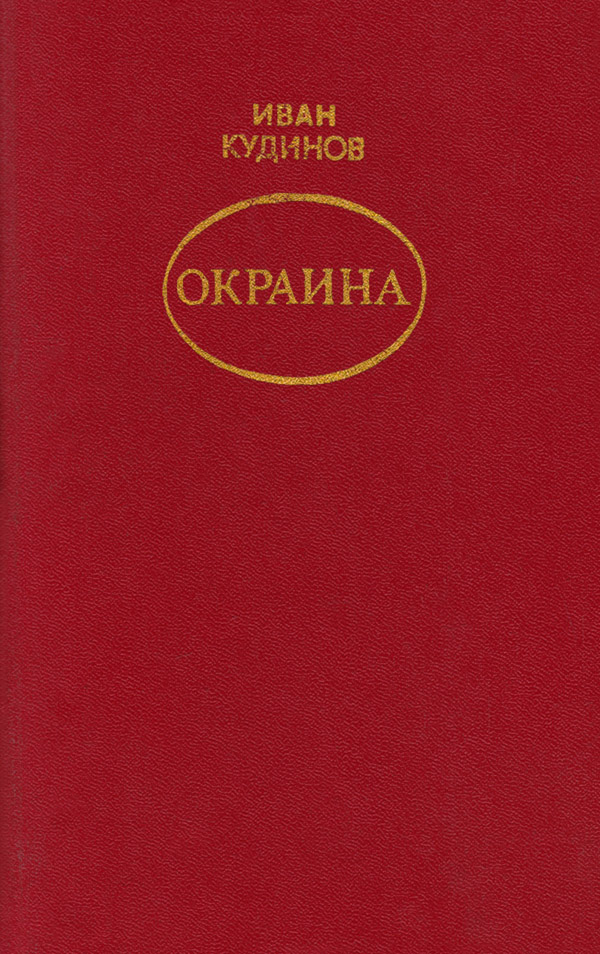любом случае вернуть их в полной сохранности.
Дня через два он действительно записки вернул, сам принес в больницу, наделав там переполоху. Да и Ядринцева несколько смутил визит губернатора.
— Вот, как условились, возвращаю ваш труд, — сказал Гагарин. — Благодарю вас. Весьма любопытно. Прочел единым духом и вижу в вас настоящего литератора…
— Рад, что доставил вам удовольствие, — отвечал Ядринцев. Выглядел он живописно в потрепанном арестантском халате, с которым даже здесь, в больнице, не расставался — другой одежды не было. А рядом стоял человек с генеральскою осанкой, в генеральском мундире, и говорил Ядринцеву комплименты:
— Все это весьма интересно. У вас свой взгляд на вещи, свои наблюдения. Хотя и не во всем я с вами согласен, однако есть пища для размышлений. А теперь, — он весело и прямо посмотрел на Ядринцева, без этакой вельможно-генеральской снисходительности, а сочувствующе, открыто, — а теперь скажите: куда бы вы желали поехать? Выбирайте любой уездный город Архангельской губернии.
— Спасибо, — кивнул Ядринцев и, не задумываясь, назвал Шенкурск. — Если можно, Шенкурск.
Столь поспешный ответ удивил губернатора: есть города и получше, и поближе к губернскому центру. Но коли назван Шенкурск — что ж, быть посему. А Ядринцев был рад безмерно: в Шенкурске остался Шашков. Быть рядом с другом — чего еще желать в теперешнем положении!..
Лето на исходе. Северные края томились под жарким солнцем. Над городком, окруженным редкими лесами, синело чистое, белесоватое по окаему небо. В эту благостную пору Ядринцев и явился в Шенкурск, разыскал Шашкова, и похудевший, не совсем еще оправившийся от болезни Серафим глазам своим не поверил, увидев Ядринцева.
— Откуда, как? Неужто на поселение? — Они обнялись, расцеловались. — Значит, вместе будем?
— Вместе, Серафим, вместе.
— О, провидение! — радостно вскинул руки Шашков и крикнул кому-то, позвал: — Ювенал! Поди-ка сюда. Поскорее.
Вошел неслышно, мягко ступая, невысокий розоволицый мужчина, в очках, чуть поклонился.
— Ювеналиус, — отрекомендовал его Шашков. — Мой спаситель. А это, — кивнул на Ядринцева, — Николай Михайлович. Отныне будем вместе.
Ювенал еще раз поклонился и вышел, неслышно и мягко ступая. Минут через пять под окном задымил самовар. Вскоре Ювенал снова явился, выставил чашки, сахарницу, ложечки, все это молча, деловито. Потом сказал:
— Прошу, господы, кушать чай…
Чай после дороги — прекрасно! Да еще с рафинадом, с пшеничною булкой.
— Ну, Серафим, живешь ты, надо сказать, барски, — шутил Ядринцев. — Между прочим, что это за человек? — спросил, когда молчаливый и деловитый Ювенал вышел.
— Ювенал-то? О, это прелюбопытнейшая личность! Польский ксендз. Доминиканец. Умный человек, но каши в голове много… А тебе он что, не понравился?
— Нет, отчего же, вполне сносный. Только, глядя на него, я подумал о Вольтере, которому прислуживал какой-то иезуит, — улыбнулся Ядринцев. — И Вольтер, рекомендуя его, обычно говорил: это не первый человек на свете…
Шашков засмеялся.
— Считаешь, он у меня в услужении? Нет, нет, Ювенал совсем другой… Знаешь, я очень был плох, и Ювенал не отходил от меня, исцелял, как мог, прямо скажу, спас он меня. Прекрасный человек. Послушай, — вдруг перевел разговор на другое, считая, видимо, тему насчет доминиканца исчерпанной, — послушай, Николай, а где же остальные наши сибиряки?
— Остальные… — погрустнел Ядринцев. — Остальные — кто где. Ушаков отправился в Холмогоры. Буду, говорит, там разводить черных коров, а то резьбой займусь… табакерки изготовлять стану. Шайтанову Пинега назначена. А мы вот с тобой…
Снова появился Ювенал. Положил перед Шашковым какие-то порошки, стоял подле, смотрел строго.
— Спасибо, Ювенал, непременно приму твое зелье, — сказал Шашков. Однако Ювенал все стоял, упорно глядя на Серафима.
— Принми, Фимыч, на моем глазу… — велел он, смешно коверкая русский язык. — Принми.
И не ушел, пока Шашков не проглотил порошки, морщась и торопливо запивая чаем.
— Видал? — кивнул он на дверь, за которой скрылся поляк, и в голосе его прозвучало уважение к этому странному с виду, загадочному человеку. — Упрямый спирит. Может, и не первый человек на свете, но для меня он незаменимый.
Они теперь встречались ежедневно. Ядринцев поселился неподалеку, через улицу, и уже недели две спустя знал о Шенкурске не меньше любого старожила. Поражала скудная природа, бедная земля. Хозяин, в доме которого Ядринцев жил, разговорившись как-то, жаловался:
— А цего тут, — вместо «ч» у него выходило звонкое, отрывистое «ц», — цего тут доброго? Хлеб-то хоть и родит, а какой хлеб-то, горе одно. Лес не успеешь вырубить, а там уже все песком занялось… Цего хорошего?
Ядринцев приглядывался к жизни этого маленького, богом забытого, нуждою забитого городка. Люди здесь, как и всюду, жили надеждой на завтрашний день, готовы были все вытерпеть, вынести, лишь бы дожить до этого светлого завтра. Но вот наступало завтра, приходило со своими трудностями и невзгодами, становясь грубой, жестокой явью — и все сначала: впереди опять маячило новое завтра, новые надежды, без которых и вовсе не жить. Похоже было на то, как хозяйка дома Фетинья, когда надо залучить домой заигравшегося шестилетнего сына, выходила за ворота и звонким, распевным голосом звала:
— Ващка-а! Ващка-а, змей подколодный, иди домой! — Васька то ли не слышал, то ли не отзывался умышленно, и тогда она прибегала к испытанной и верной хитрости. — Ващка-а, — смягчала голос, — подь домой, чай со шлащтями будем пи-ить!..
Чай «со шлащтями» действовал магически — и через минуту-другую запыхавшийся, взъерошенный Васька влетел в ограду…
Сладости предстоящей, будущей жизни — вот что манило и обнадеживало.
Убогий Шенкурск, со своими девятьюстами обитателями, влачившими жалкое существование, но жившими неизбывной надеждой на завтрашние «сладости», поначалу вгонял Ядринцева в уныние.
Он поражался человеческому терпению, упорной вере: завтра придет и будет оно совсем иным. И видел почти каждый вечер, как в густеющих августовских сумерках выходила за ворота Фетинья и оглашала улицу распевно-вкрадчивым, грудным голосом:
— Ващка-а-а, иди чай со шлащтями пи-ить!
И Васька тут как тут. Хотя по опыту своему и должен бы знать, что ни вчера, ни позавчера, когда его матка заманила таким вот образом, никаких сластей ему не перепало; он и знал это, знал, но тем не менее опять верил, надеялся, что уж сегодня-то наконец попьет он чаю со сластями!..
* * *
А вскоре и Ушаров приехал, свалился как снег на голову нежданно-негаданно. Сумел, говорит, убедить начальство, что место его не в Холмогорах, а в Шенкурске… Так и не удалось ему заняться разведением черных коров. Но табакерки искусной холмогорской резьбы он привез и подарил друзьям.
Надзор за ними хотя и не был столь строг, как за уголовными, которых здесь тоже было достаточно, однако и без внимания их не