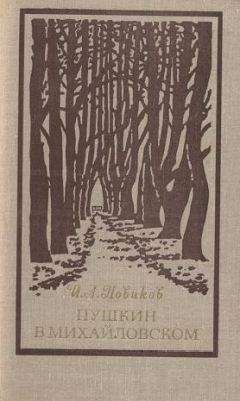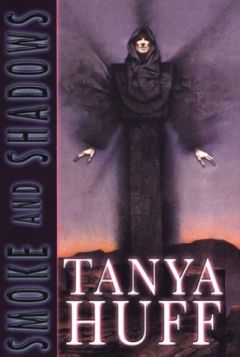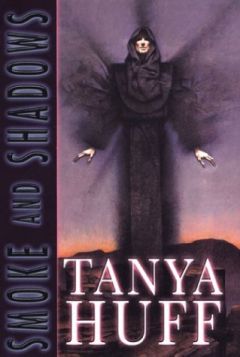Барон был, однако, сильно припуган. Сам он на площади не был, но близко прогуливался, как и многие — из любопытства, и видел царя Николая; по дороге домой зашел он к Одоевскому и узнал, что тот уже арестован. В Москву он писал Баратынскому: «Напиши мне об Московском Парнасе, надеюсь, он не опустел, как Петербургский. Наш погибает от низкого честолюбия. Из дурных писателей хотелось попасть в еще худшие правители. Хотелось дать такой нам порядок, от которого бы надо было бежать на край света. И дело ли мирных муз вооружаться пламенниками народного возмущения?»
Правда, Дельвиг писал так отчасти и для чиновников, читающих письма: он знал, что малейшее сочувствие бунтовщикам ставилось в прямую вину, и знал, что весь Петербург полон доносчиков. Он и Пушкину отвечал с большой осторожностью, что Раевские оба па совершенной свободе, но умолчал, что все же оба брата были некоторое время под арестом. Он сообщал и о Кюхельбекере: «Наш сумасшедший Кюхля попался, как ты знаешь по газетам, в Варшаве». «Говорят, что он совсем не был в числе этих негодных славян, а просто был воспламенен, как длинная ракета». Но Дельвиг боялся написать, что и Левушка причинил немалое беспокойство родителям, очутившись на площади и приняв палаш от бывшего своего учителя Кюхельбекера.
Впрочем, петербургские слухи и новости проникали в озерную эту глушь не только из писем, но и изустно: сношения с Петербургом усилились.
Беспокойство за арестованных царило и в Тригорском. Там уже было известно, что среди восставших находились и внучатые племянники Осиповой — Сергей и Матвей Муравьевы-Апостол, и троюродный брат князь Оболенский; Анна вспоминала и мальчиков Муравьевых — Никиту и Александра, с которыми некогда она и кузина ее шалили и дурачились в детстве.
О случае с братом Пушкин узнал от Прасковьи Александровны. Волнение родителей было столь велико, что они «по секрету» шептались об этом и печаловались решительно всем друзьям и знакомым, пока слухи о происшествии не обошли чуть ли не весь Петербург. Теперь, с поимкою Кюхельбекера, его, несомненно, допросят и о злополучном палаше и заставят-таки сознаться в совращении Льва. Но ежели брата не тронули сразу, когда хватали направо и налево за всякий пустяк, не значит ли это, что решили взглянуть как на простой анекдот: ну, принял оружие, которое Кюхельбекеру, видимо, некуда было деть, ибо палаш он только что отнял у спасенного им от толпы жандармского чина, а в другой руке держал свой пистолет; и даже пусть Лев Сергеевич смолчал, не протестуя, когда тот же все Кюхля за него провозгласил его новым воином, — однако что же дальше? Сунул палаш куда-нибудь в снег и побежал домой хвастаться?.. Ведь Кюхельбекер-то пришел вооруженный, а не с пустыми руками и не мялся с оружием в руках, а стрелял!
Впрочем, Пушкин на брата был очень сердит еще с лета. Он долго не мог добиться от него, уплачены ли остальные пятьсот рублей Всеволожскому, на чем он категорически настаивал, и до сих пор еще не известно было, отдал ли и Вяземскому затянувшийся долг в шестьсот рублей, о котором он было совсем перестал беспокоиться, думая, что Лев давно уплатил. Все это мучило Пушкина. Брат не только пускал по ветру деньги, но и ставил его самого в неловкое положение. «Теперь пишу тебе из необходимости. Ты знал, что деньги мне будут нужны…» — так Александр давал понять брату, что тот лишает его самой возможности думать серьезно о том, чтобы попасть за границу.
И все же он долго терпел эту беспорядочность Льва, почти решительно ничего не делавшего и по изданию, а только читавшего стихи знаменитого брата направо и налево… Пушкин долго ему лишь выговаривал в письмах, сменяя былую нежность и шутки на строгость и раздражение. Это было невесело, да и нелегко, но, раз открывшись, глаза уже не могли не видеть того, что было в действительности: всей пустоты милого Левушки! И Пушкин совсем прекратил сношения с братом.
Слушая теперь этот рассказ, он живо себе представлял пыл Кюхельбекера; не менее живо увидел, как всплескивал руками Сергей Львович, перемежая имя божие именем Карамзина, который «один может спасти»; угадывал тайную гордость Надежды Осиповны и как блеснули глаза ее при вести о «подвиге» Льва. Да, им восхищались и Ольга, и, наверное, Керн, жившая после переезда своего в Петербург у Пушкиных же. Левушка очень умел очаровывать женщин. В этом было нечто фатальное, и они извиняли ему решительно все и обольщались его поверхностным блеском. Но мог ли сам Пушкин поверить, что Лев был на деле с восставшими?
— А куда же он дел тот палаш? Ведь ежели принял оружие, надо тогда и сражаться. Иначе смешно.
— Не нападайте на Льва, — заступилась Прасковья Александровна, — он же не трус.
— Я в этом его и не обвиняю. Но уж наверное на память потомству он не запишет сей эпизод. Гордиться тут нечем.
— Да он же и не был ведь заговорщиком, зачем бы ему и сражаться?
— Я тоже так думаю. А впрочем, — добавил он с легкой усмешкой, — издали, как говорится, виднее… И как это знать, отважный мой брат: может быть, подвиг твой все же со временем и воспоет какой-нибудь славный историк!
Пушкин явно был раздражен, и Прасковья Александровна имела достаточно такта, чтобы беседы о Льве не продолжать.
Она, как и Пушкин, была далека от мысли хоть как-нибудь сближать его с теми людьми, настоящими, что томились теперь в казематах. Сам Пушкин был бы, пожалуй, не прочь братом и погордиться, если бы было за что. В первое мгновение он и ощутил было, как горячее чувство готово смыть все обиды и разочарования. Брат… неужели?., вот как! Но тотчас же так на него и пахнуло фамильным тем духом безволия и несобранности, тщеславия и суеты, который всегда мешал дышать ему дома и от которого, хоть и принудительным образом, бежал из Петербурга, отрясая прах от ног своих.
Однажды пришла весть и о Пущине, заставившая дрогнуть сердце. Горчаков не забыл-таки, видимо, разговора в Лямонове и, враг заговорщиков, сам пришел к Пущину и предлагал бежать за границу: для него это был настоящий поступок. Но — замечательно — Пущин наотрез отказался: он считал долгом разделить общую участь.
Милый, бесценный друг! У Пушкина дрогнули ресницы. Сам он не поступил бы так, но это его умилило. Пущин не гнулся, его было можно только сломить. Надо ли так?..
Пушкин совсем не цеплялся за жизнь, он не раз ее ставил на карту из-за какого-нибудь оскорбления: порою действительного, а порою и мнимого или совершенно пустячного. Он вспыхивал, как порох, хотя случалось и так, что таил в себе непогашенную надежду отмщения и целые годы, как это было с Толстым. Но все это было его личное дело, когда ж возникала борьба из-за чего-то иного, он допускал и игру, маневрирование, без этого было даже нельзя, это входило в самое понятие жизни и часто являлось ее настоящей пружиной. И здесь это бывало подчас жестоко и трудно, ибо порою задевалась и собственная гордость, но это же было и высоким искусством: как бы уступая — не уступать!
И Пушкин в те дни много думал все же и о себе. Сон его стал беспокойным. Часто грезились сборища, чудища, схватки. Это врывалось даже и в мирные воды «Онегина», и сон его Татьяны был родствен его собственным снам…
Он сам уцелел, но надолго ли?.. И начал опять разговор с Петербургом. Кому ж и писать, как не Жуковскому?
Повар Арсений чаще обычного ездил теперь в Петербург, и с одной из оказий Пушкин отнесся к Жуковскому, объясняя ему, что не писал, «потому что мне было не до себя». Принадлежность свою к заговору он отрицал, но признавался, что «все-таки я от жандарма еще не ушел, легко, может, уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных. А между ими друзей моих довольно». И тут же опять с тревогою спрашивал: оба ли Раевские взяты?.. Но, вспоминая двадцатый год, он не хотел уже никаких поручительств: он хотел сохранить за собою свободу поступков. «Теперь положим, что правительство и захочет прекратить мою опалу, с ним я готов условливаться (буде условия необходимы), но вам решительно говорю: не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства и т. д.». И в самом конце письма, помянув покойного Александра, не удержался-таки: «…я не совсем был виноват, подсвистывая ему до самого гроба».
Как поведет себя новый царь Николай? Пушкин Плетневу писал (по почте уже): «Верно вы полагаете меня в Нерчинске. Напрасно, я туда не намерен, — но неизвестность о людях, с которыми находился в короткой связи, меня мучит. Надеюсь для них на милость царскую». — «С нетерпением ожидаю решения участи нещастных и обнародования заговора, — так обращался и к Дельвигу. — Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего царя. Не будем ни суеверны, ни односторонни — как французские трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шекспира». Письмо это шло также уже не по оказии.
Так он и жил, не предпринимая пока ничего. В феврале Прасковья Александровна увезла Анну в Малинники. Пушкину в эту зиму было совсем не до ухаживаний за девицами, хотя бы и выражавшихся всего лишь в легком поддразнивании. Анна особенно нервничала и то хотела уехать одна, то поджидала, не приедет ли Нетти за ней. Однако же, когда мать собиралась отъезжать, ей стало так горько, что даже и Пушкин ее пожалел. Он проводил их обеих до Пскова и на прощанье был с Анной так нежен и мил, как только один он умел. Но уже па обратной дороге едва ль он ее вспоминал, а письма, которые она теперь ему присылала, то негодуя на мать («Я, право, думаю, как и Анна Керн, что она одна хочет одержать над вами победу и что она из ревности оставляет меня здесь»), то вспоминая счастливые для нее самой псковские дни («Сегодня она подсмеивалась над нашим прощаньем во Пскове, находя его чересчур нежным»), то упрекая его в равнодушии, — все эти длинные излияния чувств его не трогали вовсе. Разве лишь изредка он улыбался, читая, как бедная Анна описывала ему тамошние свои успехи у мужчин: как один из ее обожателей схватил ее за руку и хотел поцеловать («О, этот превосходит даже и вас…»).