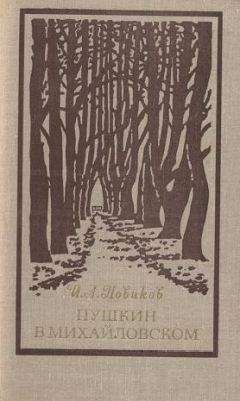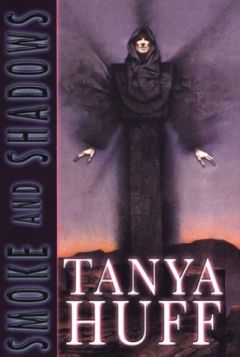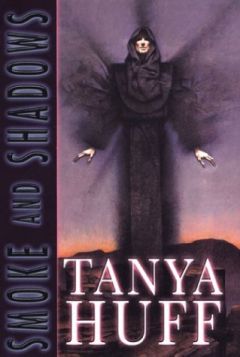Так он и жил, не предпринимая пока ничего. В феврале Прасковья Александровна увезла Анну в Малинники. Пушкину в эту зиму было совсем не до ухаживаний за девицами, хотя бы и выражавшихся всего лишь в легком поддразнивании. Анна особенно нервничала и то хотела уехать одна, то поджидала, не приедет ли Нетти за ней. Однако же, когда мать собиралась отъезжать, ей стало так горько, что даже и Пушкин ее пожалел. Он проводил их обеих до Пскова и на прощанье был с Анной так нежен и мил, как только один он умел. Но уже па обратной дороге едва ль он ее вспоминал, а письма, которые она теперь ему присылала, то негодуя на мать («Я, право, думаю, как и Анна Керн, что она одна хочет одержать над вами победу и что она из ревности оставляет меня здесь»), то вспоминая счастливые для нее самой псковские дни («Сегодня она подсмеивалась над нашим прощаньем во Пскове, находя его чересчур нежным»), то упрекая его в равнодушии, — все эти длинные излияния чувств его не трогали вовсе. Разве лишь изредка он улыбался, читая, как бедная Анна описывала ему тамошние свои успехи у мужчин: как один из ее обожателей схватил ее за руку и хотел поцеловать («О, этот превосходит даже и вас…»).
Все это было, быть может, даже жестоко, но в области чувства был Пушкин правдив до конца и Анну, так его ждавшую, так ему отдававшую сердце и думы, мечты, — так и оставил и без любви, и без настоящих стихов.
Пушкин сидел, подпершись локтем, как сиживал, бывало, в Лицее. На сей раз он думал всецело о своих личных делах. Он пережил свое бурное чувство к Анне Петровне, отрезав его как ножом. Его сближение с Оленькой давало ему забвенье, покой.
Но вот утром сегодня она встретила его в коридоре и, проходя, опустила глаза. Он тронул ее за плечо, она опустила и голову. Тогда он ладонью отогнул ее лоб, и она уже не стала больше таиться. Однако ж и выговорить то, что хотела б сказать, было трудно. За нее говорили глаза, и Пушкин, как ни далек он был от той мысли, сразу ее прочитал:
— Неужели… ждешь ты ребенка?
Она кивнула ресницами и продолжала глядеть с той неотступною преданностью, которая была ему так знакома и досель никогда не была тяжела. Да и сейчас глазами она ни о чем не спрашивала и ничего не требовала от него. Но у него внутри все перевернулось. Чем мог он ответить на первые эти ощущения матери? Мог ли он ответить естественным чувством отца? И почему никогда он не думал даже о самой возможности этого? Ему стало трудно выносить этот прямой ее взгляд, он положил руки ей на плечи, привлек к себе и поцеловал в голову. Он едва смог вымолвить несколько слов:
— Ну, что ж… ничего. Увидим… Не беспокойся.
Слова были бедны, чувства в душе — смутны и нелегки. Радости не было, волнения отца не было тоже, была лишь одна озабоченность.
Он озирал теперь мысленно весь свой роман, столь не похожий на другие его романы. Не было с его стороны ни борьбы, ни домогательств, не встречал ни в чем он отказа, не было страстных порывов к недосягаемому, ни упоения на каждом новом этапе сближения. Разве испытывал он муки отчаяния, или томленья разуверения, или… ревность? Нет, ничего этого не было, и все произошло как бы само собою, бездумно, естественно, и продолжалось спокойно и ровно и, казалось бы, прочно.
Пушкин не раз думал и о разлуке, но эти мысли его были поверхностны: как он будет ее вспоминать и как тяжело будет ей расставаться. Так же мало думала, верно, и Оленька, и ни в чем не перечила няня: для нее это все тоже было как бы в порядке вещей.
Но как круто все изменилось! Теперь возникала ответственность и… тысяча всяческих неудобств. Даже и это мелкое слово возникало в его голове. Что, например, скажут в Тригорском? У него даже, в сущности, не было угла на земле, где он был бы хозяином: он жил у родителей. Даже негласной семьи он не мог бы иметь. Так что же теперь?..
До сей поры в жизни его так еще не бывало. Была беспорядочность в юности, но легкая и ни к чему не обязывающая; были романы со светскими дамами, но все это было не то. И больнее всего была эта ее безответность, покорность, слепое доверие. От него не требовали ничего, но разве же это исход?
И Пушкин вставал и разминал занемевшие ноги и снова садился; думы не покидали его. Он перечитывал «Фауста», и перед ним возникал образ Гретхен с ребенком. Но, давая в самом сжатом виде суть чужого творения, как это часто любил, он не дал ее самое — молодую злосчастную мать, — в то же время насытив именно ее болью свою Сцену из «Фауста». Он ничего не стремился приукрашивать «сочетаньем двух душ» и обнажал для себя страшнее тайны. Так он хотел быть правдивым с собой до конца.
«Презирать суд людей нетрудно; презирать суд собственный невозможно». Так только сейчас, когда отношения их с неизбежностью прерывались, увидел он все это со стороны.
Он никого не хотел учить и ничего никому проповедовать, но сам от суда над собою не убегал. Он никуда его не выносил, доверяя одним лишь стихам, и ни перед кем не каялся. Это было бы, может быть, легче, но это не лежало в натуре его. Он выражал горячее свое убеждение, когда один раз писал Вяземскому по поводу уничтоженных записок Байрона: «Толпа жадно читает исповеди, записки и т. п., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, кап мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы, — иначе!»
Ужель он вступил на следы жившего именно здесь деда своего Осипа Абрамовича Ганнибала? Проклятые предки! Но Пушкин умел по-своему с ними справляться. Замкнувшись в себе и недоступный ни для единого стороннего ока, он принимал сам от себя редкую казнь, но умел и пребыть не подавленным ею. Не острая боль эта заливала собою все его бытие, а наоборот: оно покрывало ее и включало в себя, как составную и неизбежную часть. Так события шли и развивались своей чередой. Пушкин готов был к тому, чтобы так иль иначе держать ответ за себя и за ребенка.
Однако же все сложилось не так. Михайла Калашников, утвердившись в Болдине, просил у старого барина разрешения вывезти к себе и семью. Разрешение последовало. Сергей Львович, до которого дошли первые неясные слухи, не без удовольствия отписал Михайле, чтоб взял всю семью: пусть едет и Оленька! Для Пушкина это было, конечно, житейски большим облегчением, благопристойной развязкой, но настоящего душевного облегчения это не приносило и не могло принести.
Михайла Калашников ждал всех в Москве, и дочь должна была вот-вот выехать к нему. Пушкин тогда написал письмо Вяземскому, которое передаст сама Оля Калашникова, — с просьбой позаботиться о будущем малютке. Так он попытался взглянуть на все это дело «взглядом Шекспира»; «Приюти ее в Москве и дай ей денег, сколько ей понадобится, — а потом отправь в Болдино (в мою вотчину, где водятся курицы, петухи и медведи)». Однако же ни «Шекспира» не выходило, ни юмор не удавался. Все эти и подобные им выражения и весь тон письма, легкомысленно грубый и нарочитый, — тем более был таковым, чем глубже закапывал он в себя свою боль: «Милый мой, мне совестно, ей-богу, — но тут уж не до совести».
Прощанье с Оленькой вышло коротким, но все же не легким. Няня оставила их наедине. У Пушкина вовсе не было слов. Даже девушка, казалось, была бодрее его. Она все понимала и ни о чем не просила: ее, крепостную, барин любил, и вот она уезжала к отцу. Но именно эта покорность ее, и обреченность, и полная невозможность никакого другого «иначе» томили его, и когда Оленька к нему подошла, чтобы проститься, и лишь в эту минуту, припав к нему, зарыдала, — как страстно ему вдруг захотелось все перевернуть и все заново поставить на место!
Но вместо того он вручил ей письмо и, целуя, напутствовал, чтобы не скучала… не забывала… была весела и здорова…
Это было уж в мае. А еще до того, под сердитую руку, злой на весь мир, беспощадный к себе и другим, он написал последнюю отповедь Льву, с которым незадолго до того попробовал было обойтись по-родственному под давлением общих приятелей, которые за Левушку усердно постанывали. До Пушкина дошел слух, что любезный братец позволил себе вольно болтать как раз про Олю Калашникову: что, дескать, брат Александр с предметом своей деревенской любви обращается уже не стихами, а практической прозой. И Пушкин со Львом не постеснялся…
Было такое — широкое и строгое желание: очистить себя от всей шелухи, от ненужного, чтобы стало просторней вокруг и ясней. Это касалось его отношений и с Анной и с братом. Противоречивую сложность, возникшую в его отношениях с Оленькой, за него развязала судьба.
Теперь Пушкин раздумывал о царе: надобно было предпринимать что-нибудь решительное. По совету Плетнева еще в марте Жуковскому было написано такое письмо, чтобы его можно было показать самому государю. Пушкин ясно представил себе друга — Плетнева, получив от него этот совет. Он почти слышал мягкие его, с придыханием, интонации, как если бы тот не писал, а говорил о Жуковском: «После этого письма он скоро надеется с тобою свидеться в его квартире». Пушкин исполнил совет, но, однако ж, писал: «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости».