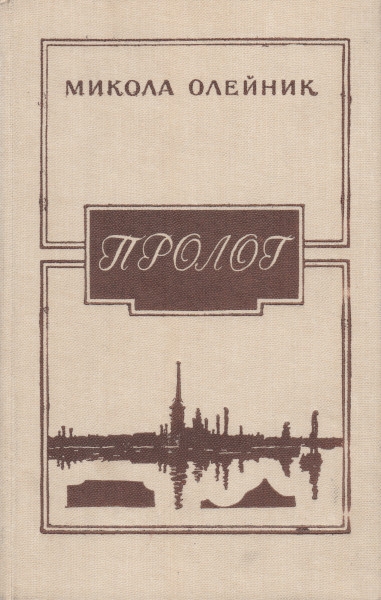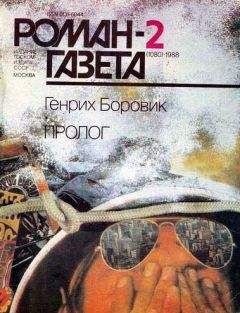что человек, который вырос в таком окружении, органически должен стремиться к добру, справедливости.
— Вполне возможно, — поддержал Кравчинский. — Хорошая мысль, правда? — обратился к спутницам. — Природа вызывает в человеке стремление к красивому, гармоничному. Недаром ведь так любили этот край и Байрон, и Гёте, и Лист... Они искали и находили здесь созвучие своему душевному настроению. В единении с этой красотой, возможно, и рождалось в них то великое, святое, что называют вдохновением.
— И какая нужна любовь, сила духа, чтобы униженному, оторванному от материнского лона петь о свободе, — сказал Павлик. — Да как петь! Чтоб через десятки лет люди восхищались. — И добавил после паузы: — Таков наш Шевченко.
— Факт любопытный, — приязненно взглянул на Павлика Сергей. — Шевченко явление неповторимое.
— Со мною на поселении были украинцы, — сказала Ольга, — они читали вслух стихи Тараса Шевченко. Это истинная поэзия, волнующая, нежная и гневная. И удивительно эмоциональная.
— Извините, Сергей, — вдруг спросил Павлик, — вы читаете по-украински?
— Читаю, читаю, Михаил Иванович, — ответил Кравчинский. — Украинский язык по матери для меня родной. Шевченко я люблю. Надо было бы перевести его произведения на другие европейские языки.
— Прекрасная мысль! — воскликнул Павлик.
Прогулка продолжалась долго. Любовались городом, озером, с наслаждением дышали весенней свежестью, обменивались новостями...
Новости были не очень утешительными.
Со дня на день Кравчинский ожидал вызова, но его все не было. Создавалось впечатление, что он забыт, брошен, что там решили действовать без него. Это угнетало, тяжелым камнем ложилось на душу. Сергей осунулся, резче обозначились скулы, обострился покрытый черными как смоль волосами подбородок. От недавнего осанистого грузинского князя, за которого он так удачно себя выдавал в Петербурге, осталась лишь гордость. Это качество, видимо, дано ему на веки вечные. Как бы ни прятался, в какие бы одежды ни рядился, оно всегда явствует, всегда с ним, как эти могучие плечи и холодный блеск глаз...
Сергей это хорошо понимал. Понимал, что эти свойства легко его выдают. Поэтому, очевидно, следует меньше бывать в многолюдных местах, вообще реже показываться на улице, дабы ненароком не попасться на глаза шныряющим везде шпикам. А что здесь, в этой нейтральной стране, их много, не может быть никакого сомнения. Смерть Мезенцева все еще не забыта жандармами.
Правда, прошел слух — видимо, друзья позаботились, — что Кравчинский в Америке. Но вообще-то удивительно, как до сих пор его не обнаружили. Впрочем, кто знает, может, и напали на след, ходят по пятам, выслеживают...
Подобные мысли посещали его, настораживали, но Сергей чаще всего не придавал им особого значения. Душевные бури то утихали в нем, то вспыхивали с новой силой, а жизнь неумолимо шла вперед. В Харькове убили губернатора — князя Кропоткина. Убили за издевательство над арестантами... Это похвально. Очень хорошо! Не давать тиранам ни минуты покоя... Вот только плохо, что растут разногласия в «Земле и воле», что арестован и сослан в Сибирь Клеменц... Как же он не уберегся, милый Бульдожка?!
Аресты, гонения, опасности... Все это — там. А здесь — тоска, склоки, пустозвонство. Поразъезжались, разбрелись кто куда. Лавров в Париже, Кропоткин погрузился в науку, пишет для «Новой всемирной истории» и время от времени интересуется местным рабочим движением. Где-то мытарствуют Лопатин и Росс... О старой эмиграции и говорить не приходится. Кажется, единственное, что кое к чему обязывает их, это «субботы». «Община» хиреет, нет в ней боевитости, информация, которой она кормит своих читателей, часто устаревшая или случайная.
Что-то надо делать... Разумеется, не что-то, а — возвращаться, объединять силы. Нельзя допускать распыленности и изолированности. Необходимо опереться на сохранившееся ядро организации, не утратившее боевого духа, и двигаться дальше.
В начале апреля приехала Фанни.
Приезд жены, как бы там ни было, обрадовал Сергея. Тем более что весть, привезенная ею, подтверждала неугасимость духа борьбы. Поляк Мирский стрелял в Дрентельна, нового шефа жандармов. Покушение не удалось, однако эхо выстрела дало огромный резонанс.
Фанни изменилась, в черных глазах, всегда сияющих, радостных, поселилась грусть. Удрученно осматривала помещение, где придется провести неизвестно сколько времени, с болью глядела на Сергея, его исхудавшее лицо, взлохмаченные, даже будто поблекшие волосы. Вот уже и седина в них, на лбу обозначились густые морщинки... А ведь ему еще нет и тридцати...
— Не печалься, — утешал жену Сергей. — Будем надеяться на лучшее.
— Не обращай внимания на мое настроение, Сережа. Это от усталости. Столько хлопот с переходом границы... Да и после, уже по эту сторону, поначалу боялась ехать к тебе, несколько дней просидела в Берне.
— Ну и напрасно, — возражал. — Чему быть, того не миновать.
— Они уже знают, что Мезенцева убил ты.
— И пусть. Пусть знают, что я еще жив и могу мстить.
— Товарищам удалось раздобыть тайный жандармский документ, где тебя прямо называют самым опасным... А ты такой неосмотрительный...
— Не будем сейчас об этом, — успокаивал ее Сергей, — тебе нельзя волноваться. Скажи лучше, как родители? Здоровы ли?
— Слава богу. Но и они переживают.
— Ну, от этого никуда не уйдешь. Знаешь что, давай устроим вечеринку. Позовем друзей, будет чай, цветы... Весна же идет, черт бы его побрал! Можем мы хоть раз обойтись без опасений и вздохов? — Он и в самом деле загорелся идеей дружеской встречи, она пришлась ему по душе, изболевшейся, изгоревавшейся постоянными тревогами и волнениями.
Фанни грустно улыбнулась, скользнула взглядом по комнате.
— Ни ложки, ни вилки...
— Пустое, достанем, Ольга тебе поможет... Пригласи Анну. — Сергей задумался. — А может, удобнее собраться в кафе у мадам Грессо? Я тебе когда-то о ней говорил.
— Лучше не надо, Сергей, обойдемся.
— Нет-нет. Друзья нам этого не простят. Твой приезд — это праздник.
— Я в таком положении, милый...
— Ты прекрасна! Я сию же минуту иду к мадам Грессо и договариваюсь. На субботу, хорошо?
— Смотри сам, как лучше.
...В субботу кафе Грессо было как никогда многолюдным. Вымытый пол отдавал смолистой желтизной досок, на столиках сверкали белоснежные скатерти, по-особому светилось голубоватое стекло окон, за которыми — рабочая Террасьерка, а там, дальше,