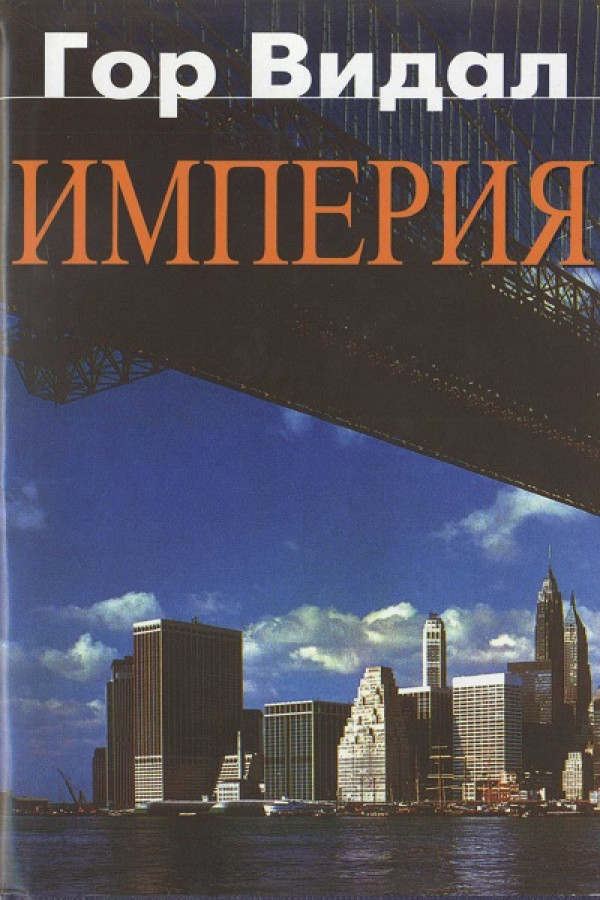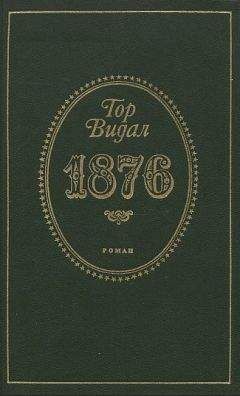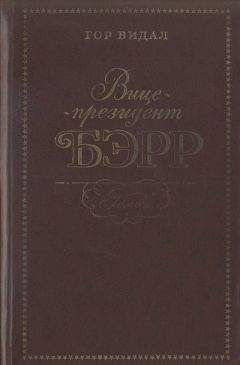противно воле божьей, а лучше славить господа за его божественный произвол.
Падение Адамса — и наше восхождение — началось с законов об иностранцах и о подстрекательстве к мятежу. О них хорошо известно, и нет смысла подробно здесь говорить, разве что замечу, что, боясь войны с Францией, правительство Адамса протолкнуло через конгресс четыре законоположения. Во-первых, президент получал право арестовывать иностранцев во время войны; во-вторых, закон разрешал при надобности их депортировать; в-третьих, время постоянного жительства для получения гражданства увеличивалось от пяти до четырнадцати лет (эту меру называли «законом Галлатэна» — Альберт Галлатэн приехал в Соединенные Штаты из Женевы, был избран в сенат от штата Пенсильвания, затем сенатом же был лишен места, несмотря на все мои усилия его спасти). В-четвертых, был проведен закон о подстрекательстве к мятежу: запрещалось публиковать «какую-либо клеветническую, скандальную и злобную литературу», направленную против правительства и его членов.
У меня был разговор с Гамильтоном в июле девяносто восьмого года, когда вышел закон о подстрекательстве. Он разыграл отчаяние:
— Я жизнь отдал, пытаясь укрепить жиденькую, никудышную ткань нашей конституции, а теперь этот дурак Адамс навязывает нам тиранию.
— Не волнуйтесь. У него не будет такой возможности. Считайте, что он уже расстался с президентством.
— Я вовсе не уверен. — Розовощекое лицо вдруг приняло злорадное выражение. — В конце концов, депортация иностранцев у нас только приветствуется.
— А как насчет ареста редакторов?
— Лично я их колесовал бы и четвертовал, и вы тоже. Но может быть, нам и повезет.
Неделю спустя я понял, что он имел в виду. Вашингтон по просьбе президента принял командование армией. Гамильтона назначили заместителем командующего в ранге генерал-майора. Далее президент Адамс предложил присвоить мне звание бригадного генерала, но Вашингтон отклонил мою кандидатуру на том основании, что я друг Джефферсона и, значит, скрытый демократ, который может попытаться свергнуть правительство!
Гамильтон намеревался спровоцировать войну с Францией. Тогда американская армия (с английским флотом) нападет не прямо на Францию, а на испанскую империю и при попустительстве Англии присоединит Латинскую Америку к Соединенным Штатам — план бредовый.
К счастью для республиканской партии, Адамса не интересовала война. К не меньшему счастью, Вашингтон умер в декабре 1799 года. Тогда со стороны французской Директории последовали миролюбивые жесты, мечты генерал-майора Гамильтона о военных завоеваниях а-ля Бонапарт рухнули, и в нем окрепло желание наказать основную фигуру, препятствовавшую его планам, — Джона Адамса.
Вскоре после наступления нового, 1800 года Джефферсон посетил меня в гостинице Фрэнсиса в Филадельфии, куда я приехал по его настоянию. Я снял небольшую угловую комнатку для нашей встречи, которая оказалась довольно продолжительной. Нам многое пришлось сказать друг другу, и не все из того, что мы говорили, было приятно.
Из главной гостиной доносился громкий говор конгрессменов, чьи основные дебаты проходили не в конгрессе, а в уединении заведения Фрэнсиса. Вообще все они отличались веселым нравом, и их определенно следовало избегать.
День был холодный, и вице-президент оделся соответственно. Рыжие волосы обрамлены мехом, веснушки особенно выступали на зимней бледности лица. Он сжал мою ладонь в теплом рукопожатии. Джефферсон сбросил подбитый мехом капюшон и стал рассуждать о франклиновской переносной печке, он вдумчиво разъяснил мне принцип ее работы (что я знал), высказал несколько наблюдений о характере ее изобретателя — Бенджамина Франклина (что тоже было мне известно) — и явно собирался болтать о чем угодно, кроме того, зачем я ему понадобился, — кроме альянса между Виргинией и Нью-Йорком, который сделал бы его президентом. Прикидываясь, будто он вовсе не политик, он был политиком до мозга костей.
Я спросил его о похоронах Вашингтона. Джефферсон вдруг стал холоден.
— Я не присутствовал. Полагаю, он хотел, чтобы на его похоронах не было никаких речей.
— Однако он десять лет, кроме прославления, ничего не слыхал.
— Мало ли что. — И Джефферсон почти слово в слово повторил мне свое мнение о Вашингтоне, высказанное на берегу реки Скайлкилл. Я заметил, что даже самые великие люди любят повторяться. Пожалуй, их можно понять: встречаясь со многими людьми, не будешь же все время придумывать что-то новое.
В тот сезон Джефферсон был особенно занят. Взбешенный законами об иностранцах и подстрекательстве к мятежу, он, скрывшись под псевдонимом, напал на них в печати, смело защищая право любого штата аннулировать любой закон федерального правительства, если штат сочтет его неконституционным. Он блистательно и смело поставил вопрос о выходе любого штата из Союза. Я ужаснулся. Мэдисон тоже; он устало сказал мне, что Джефферсон в гневе не ведает, что творит.
— Гений бывает особенно свиреп, когда поддается минутным страстям, — сказал Мэдисон печально. — Проявив верх неблагоразумия, законодатели в Кентукки приняли формулировку Джефферсона (не зная, кто ее автор), а Виргиния приняла гораздо более разумный документ Мэдисона. Обе резолюции затем были представлены остальным штатам на утверждение. Их отвергли. Другие штаты не желали так поспешно расправляться с федеральным союзом.
— Я попал в весьма деликатное положение. Ведь я служащий федерального правительства. И тем не менее я против тирании федеральной системы. — Джефферсон всегда умудрялся оказаться в положении агента-двойника. В качестве государственного секретаря он дал согласие на введение налога на виски; а потом принял сторону фермеров, восставших против налога. В качестве вице-президента он сейчас отстаивал расчленение Союза.
Я всегда убеждался, что, имея дело с Джефферсоном, нужно обязательно при каждой новой встрече все начинать сначала, чтобы установить — нет, не близость, а некоторую общность интересов. У меня есть от него несколько писем, посланных через короткие промежутки времени, в которых он каждый раз представал передо мной будто новым человеком. Он вечно ускользал, менялся, и так же уклончива была вся его политика. Отношения с ним не имели продолжения.
Черный слуга принес нам рому, и мы оба, принимая во внимание обычную нашу воздержанность, выпили довольно много. Приход негра напомнил Джефферсону про законопроект, переданный на рассмотрение конгрессу, — об ограничении власти Туссена Л’Увертюр — черного правителя Санто-Доминго.
— Мы не сможем его признать. Никогда. Хотя бы из-за наших французских друзей. — Джефферсон разволновался. Надо было дать возможность братской республике (с девизом свободы, равенства и братства) подавить черных бунтовщиков. А до тех пор о признании нечего и думать, и вот еще, оказывается, почему: — Представляете себе, во что превратят наши южные порты эти бывшие рабы, поубивавшие своих хозяев?
Блистательный довод, ничего не скажешь!
Мы поговорили об аресте редактора Джеймса Каллендера на основании закона о подстрекательстве.
— Безусловно, его выпустят, — бодро заявил Джефферсон, он любил своего ставленника.
Однако уже в августе Джефферсон сказал мне печально:
— Бедный Каллендер ждет суда в ричмондской тюрьме.