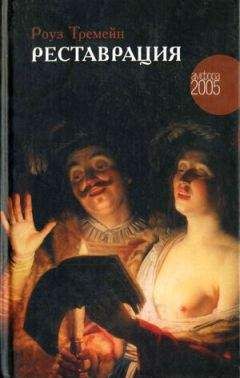Сэр, не сомневайтесь, мы хорошо подготовимся к Вашему возвращению — мистер Кэттлбери испечет мясной пирог и приготовит отменное жаркое, мы снимем чехлы, которые надели на мебель после отъезда виконта де Конфолена. И не думайте, что Вам позволят спать на конюшне. Вы будете спать в одной из лучших комнат, ну, хоть в Оливковой, где мы ухаживали за больным мистером Пирсом.
Сообщите нам заранее о дне Вашего приезда, чтобы мистер Кэттлбери успел купить мяса и подготовить его по всем правилам. Мы оба с большим нетерпением ждем от Вас весточки.
Ваш слуга
Уильям Гейтс.Я выбрал двадцать девятое апреля из текущего 1667 года, когда весна пришла с холодными дождями и редкими появлениями на небе солнышка Поездка в Биднолд займет несколько дней: ведь я поеду верхом на Плясунье, но я твердо знал, что буду наслаждаться каждой минутой путешествия, какая бы ни стояла погода а оказавшись, наконец, под огромным норфолкским небом, вскину голову и радостно закричу.
В день, когда я верхом на Плясунье покинул Лондон, лил дождь, но, повернув на северо-восток, мы несколько дней ехали под безоблачным небом.
Во время поездки я не раз задавал себе вопрос, какие перемены могут ожидать меня в Биднолде, и понял: первое, что бросится мне в глаза, — это запущенность, отсутствие хозяина. Виконт, как можно судить по письмам Уилла использовал Биднолд только как место для развлечений и распутства. Он никогда не жил в нем подолгу, не старался его полюбить, теперь же вообще перестал приезжать и не платил жалованье слугам. Уилл и Кэттлбери остались — как я полагал, им платил Бэббеком, — но я не сомневался, что садовники, конюхи, горничные и буфетчики ушли, и постепенно дом. сад и даже парк пришли в запустение и упадок. Я представлял, как это больно Уиллу. Я так и видел его смуглое морщинистое лицо и слышал, как он умоляет меня что-нибудь сделать, остановить процесс угасания Биднолда — места, которое он любил не меньше, чем я. а я отвечаю, что это не в моих силах: поместье не принадлежит мне больше, моя жизнь теперь проходит вне его.
Я не давал таким мыслям повергнуть меня в уныние. Не помню, чтобы за время путешествия я хоть раз предался надолго печали, и где бы ни останавливался на ночлег, сон мой был долог, и в нем я всегда уже был в Биднолде.
И вот я действительно в Биднолде. Плясунья рысью проносит меня мимо «Веселых Бездельников», мимо церкви; от деревни мы забираем влево и, минуя огромные железные ворота, въезжаем в парк. Плясунья бьет хвостом, фыркает, бег ее становится резвей.
Веет легкий ветерок, тени от быстро бегущих облаков плывут по траве. Каштаны в полном цвету. Под ними щиплют травку маралы, при нашем приближении они поднимают головы и смотрят на нас.
Мы поворачиваем на подъездную аллею, и — вот он, особняк в поместье Биднолд, графства Норфолк, — дом, отобранный у противника монархии. Джона Лузли, и отданный мне за согласие сыграть роль рогоносца, дом, где пышным цветом распустилось мое безрассудство, дом Меривела.
Я притормаживаю Плясунью, и она переходит на шаг. Сейчас мы находимся как раз на том месте, откуда одним морозным утром я бросился за каретой Селии, поскользнулся на льду, упал и порвал чулки персикового цвета. Здесь проходит крепостной ров, за рвом, с южной стороны дома, начинается лужайка, там растут огромные кедры, мы неспешно едем туда, и я замечаю, что лужайка аккуратно подстрижена, а вокруг кедров установлены украшенные резьбой скамьи.
Теперь мой взгляд устремлен на парадную дверь. Рука еще помнит ее тяжесть и мою радость, когда она поддавалась, пропускала меня внутрь, с шумом захлопываясь за моей спиной. Я как будто знал, что недолго буду здесь хозяином.
Дверь открывается. Выходит Уилл Гейтс, за ним Кэттлбери, они стоят бок о бок и смотрят на меня с таким изумлением, как если б оказались свидетелями прохождения кометы Галлея[70] или еще какого-нибудь чуда. Потом их лица расплываются в улыбках, а я кричу: «Уилл! Кэттлбери! Вот и я!», но мой голос не долетает до них. Мне кажется, что я улыбаюсь, хотя на самом деле я плачу, как ребенок, и не могу сдержать слез, они льются ручьем, застилая и заставляя дрожать всю картину, и я с трудом удерживаю равновесие в седле.
Плясунья застывает на месте, я слезаю с лошади и вижу, что Уилл и Кэттлбери тянут ко мне руки. Я крепко пожимаю эти верные руки и, несмотря на комок в горле, заставляю себя расхохотаться, как в былые времена.
— Сэр» вы очень исхудали, — говорит Уилл.
Я киваю в знак согласия, еще не в силах говорить.
— Мы это поправим, сэр Роберт, — успокаивает меня Кэттлбери. — Поправим нашими фирменными мясными блюдами.
— Конечно, поправим, — отвечаю я. — Мясными блюдами.
Я ошибался, когда думал, что найду дом в запустении.
Даже в отсутствие хозяина комнаты содержатся в чистоте, нигде ни пылинки, в воздухе разлито благоухание, как будто появления владельца ждут с минуты на минуту.
Мало что сохранилось здесь от моего прежнего вульгарного убранства. Правда, ковер из Чанчжоу по-прежнему находится в Комнате Уединения, не утратив чистоту и яркость красок, но обивка на стенах уже не красная с золотом, стены обиты серо-сизой парчой, исчезли и яркие алые диваны. И все же комната выглядит роскошней, чем прежде. Над камином висит итальянское зеркало в позолоченной раме. Стулья и скамеечка для ног обтянуты шелком персикового цвета и бархатом цвета берлинской лазури. Стены украшают портреты всадников (нельзя сказать, чтоб в этих портретах отсутствовали дорические колонны и лесные поляны). В комнате также стоит карточный кленовый стол, шахматный столик из черного дерева и слоновой кости и еще спинет[71] работы французского мастера Флорана Паскье. На окнах тяжелые и богатые парчовые портьеры.
— Не думал, что у виконта такой изысканный вкус, — говорю я Уиллу, осмотрев эту великолепную комнату.
Видно, что Уилл смущен.
— Мне нравилось, когда при вас все было красным и розовым, сэр Роберт, — говорит он.
Я смеюсь. Мы переходим в столовую, где проходили наши с Селией ужины при свечах. Дубовый обеденный стол стоит на прежнем месте, но стены обиты панелями, а потолок украшен резьбой и лепкой и покрашен в желто-голубые тона. Это, скорее, комната для торжественных приемов, почти отпугивающая своей парадностью; я не выдерживаю и вновь говорю Уиллу, что образ виконта, сложившийся у меня из писем, не соответствует тому, что я сейчас вижу.
— Видите ли, сэр, — мямлит Уилл, — в письме всего не скажешь. Надо быть кратким, поэтому многого не договариваешь, да и слова иногда не подберешь.
— Это правда, Уилл, — говорю я, — но ты заставил меня поверить, что ему до дома нет дела, но теперь я вижу: ты ошибся, дом обставлен со вкусом.
Уилл пожимает плечами, на нем новая рыжеватого цвета ливрея.
— Он не приезжает сюда больше, — заявляет он, — надеюсь, так будет и дальше.
— И что станет с этой великолепной мебелью?
— Не знаю, сэр Роберт.
— Она будет всегда под чехлами?
— Я не могу сказать.
— То есть как, Уилл?
— Не могу сказать, всегда ли она будет под чехлами.
— А какие на этот счет были распоряжения?
— Простите, сэр?
— Как распорядился виконт?
— Да никак.
— Никак? Он что, уехал, не сказав ни слова?
— Ни словечка, сэр.
— Тогда он обязательно вернется. Он может вернуться сегодня, сегодня вечером, в любое время.
Уилл снова пожимает плечами. И отводит в сторону свои беличьи глазки.
— Может, сэр. Но не думаю, что вернется.
Я прекращаю этот разговор и иду за Уиллом в Оливковую Комнату. В ней ничего не изменилось с того времени, когда я провел здесь тридцать семь часов, охраняя сон Пирса. Возможность провести ночь на прохладных льняных простынях, под зеленым балдахином с алыми кистями, приводит меня в волнение; я сажусь на узкий диванчик у окна и благодарю Уилла за приготовленную к моему приезду комнату. Внезапно на меня наваливается усталость, и я понимаю: именно в таком состоянии начинаешь видеть и слышать несуществующие вещи. Когда я поднимался по лестнице, мой взгляд скользнул в направлении коридора, и мне показалось, что я вижу ливрейного лакея, — он бесшумно двигался от одной из комнат к кухне; вот и сейчас, глядя из окна на деревья, слушая их шелест, любуясь игрой теней, я слышу в отдалении все тот же скулеж собаки, который однажды побудил меня открыть дверь квартиры над жилищем мастера, делающего лютни, и пристально вглядываться в темноту.
День клонится к вечеру. Я говорю Уиллу, что хотел бы немного отдохнуть. Он тут же выходит и закрывает за собой дверь. Я не сплю, даже не смыкаю глаз, просто лежу, слушаю завывание ветра и не верю, что снова здесь.
Уилл и Кэттлбери настаивают, чтобы я ужинал в Парадной Столовой, хотя я чувствую себя в ней неловко, ведь я занимаю чужое место.