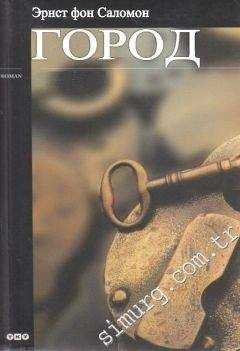Швейцар универмага КаДеВе отстегивает от стойки у входа последнюю собаку, кудрявое, маленькое, дышащее нечто с приплюснутой мордой и слабыми ногами, и передает ее, прощаясь, даме, которая принадлежит к гордой машине. - Эй, убирайтесь прочь, - говорит он Хиннерку, который стоит с широко расставленными ногами над своей корзинкой прямо у двери машины. - Заткнись, - говорит Хиннерк, и оба осматривают друг друга тяжелым взглядом. Швейцар хватает шапку и засовывает чаевые, и высокомерно отворачивается от Хиннерка, чтобы запереть двери. - Здесь еще последние свежие, - кричит Хиннерк, он смотрит направо и налево, в руках, гигиенически упакованная выпечка. Корзинка еще наполовину полна. Большая лампа у дверей универмага гаснет. Теперь сюда еще придут служащие, еще последние... Ну давай, моя девочка, для метро. Здесь еще... двадцать пфеннигов, мастер. Здесь еще... парень опять тут. Парень опять тут, молодой парень как Хиннерк, белый фартук, кепка, корзинка с солеными палочками с тмином. - Ты должен убраться отсюда, - говорит Хин- нерк, - это мой угол, испортишь мне все дело. - Что же мне делать? - говорит другой, - там коллега... - Так не пойдет, - говорит Хиннерк, - здесь мой угол, уходи, дружище. Но другой не уходит, и Хиннерк кладет свои штуковины в корзинку и идет туда, чтобы уладить дело. - Осторожно, полиция, говорит за ним голос. - Плевать мне на полицию, - говорит Хиннерк и поворачивается. Ах, это ты, Иве. Да, - говорит Иве, - оставь его, - говорит Иве, - с каких это пор у тебя капиталистические замашки? - Ты этого не понимаешь, - говорит Хиннерк, - порядок должен быть, иначе всем придется сматывать удочки. - Оставь его, - говорит Иве. - Послушай, Хиннерк, - говорит он, и кладет ему руку на руку, - у меня кое-что есть для тебя. - Что же у тебя есть для меня? - спрашивает Хиннерк, но Иве только улыбается. Мгновение они серьезно смотрят один на другого. - Порядок должен быть, - говорит Иве, наконец, - то же самое говорит, наверное, полицейский вахмистр Зайфенштибель, когда заходит в камеру к Клаусу Хайму, что тот должен вычищать свою парашу песком. - Дружище, - говорит Хиннерк, - дружище, - и внезапно понимает, и сильно ударяет Иве по плечу, и еще раз говорит: - Дружище! На самом деле? - говорит он, и Иве кивает. Тогда Хиннерк хватает свою корзинку, и снова ставит ее, и сдвигает шапку со лба. - На самом деле, - говорит он, - ну, давай же, а я на самом деле думал, что этого никогда больше не будет. Теперь он был в ударе и действительно схватил корзинку и с размахом взял Иве под руку. - Ну, - говорит он, он тыкает Иве в бок. - Дружище, тебе понадобилось два года, чтобы обдумать это? Чтобы прийти к такому выводу? Господа. Ну, это нужно простить и забыть. - Пошли, - говорит он, и они медленно бредут по улице, через площадь, и время от времени Хиннерк ставит корзинку на землю, как будто она была слишком тяжела для него, но это происходило так только в его мыслях, так как Хиннерк очень сильно был в ударе. - Когда, где, как? - спрашивает он. Он говорит: - Я рад, старина, я так рад. Ты знаешь, теперь они снова болтают неимоверный вздор об амнистии и о всем таком, и Хелльвиг, кажется, действительно проделал немало. Но мне никогда по-настоящему не нравилось, как ты так двигался по стране и обтирал ручки дверей у всяких бюрократов. И я всегда думал так, я сделаю это, я сделаю это совсем один. Но ты говорил, он не хочет, и я подумал, ты знаешь это лучше, и ты думаешь, что еще не время. И тогда я боялся за тебя, так как ты, ну это так, это я подумал, я подумал, Иве уже совсем потерял дух, не обижайся за это на меня, ты действительно уже очень близко подошел к тому, чтобы потерять дух. Ну и что же, что все же, теперь это начинается, во всяком случае. - Не забывай, - говорит Иве, - что партия отказывается от индивидуального террора. - Плевать мне на партию, - говорит Хиннерк, - мне на все партии плевать. Это же ничего, - говорит он, - коммуна или нацисты, одна и та же грязь. У одних дерьмо, а другие легальны. Теперь и у тех то же самое с запретом ношения формы. Запрет формы, старина, если бы дело было только в этом! И если они даже пропихнут ту амнистию, у меня всегда немного кружилась голова от этого, так как это же настоящее свинство, что нам вообще понадобилась какая-то амнистия. Амнистия, это может каждый. Но вот вытащить, это может не каждый. Девушка появляется у угла. - Я рад, - говорит Хиннерк. - Дай мне один, - говорит девушка, и она очень худая и очень размалеванная, и на ней высокие, красные зашнурованные сапоги до колена. - Вот, - говорит Хиннерк и хватает корзинку и вытаскивает из нее обеими руками. - Я рад, девочка, я так рад, забирай, и говорит: - Но это же ведь только начало, Иве? - Да, это только начало, - говорит Иве. - Конечно, - говорит Хиннерк, - и я уже знаю, кого мы можем взять с собой. - Я знаю одного, тот уже сидел в Целле, тот знает там точно все дела. Нет, тот чист, убийство в драке из-за девочки, что ты думаешь, по-другому он не мог, не из-за краж же и тому подобного, такое мы не можем причинить Клаусу Хайму. Ведь Клаус Хайм, это же единственный из нас, который действительно стоит с его именем. Нам нужна машина, у тебя есть машина? Ну, нет, так нет, в крайнем случае, я ее украду. Ты думаешь, я не смогу? - говорит он возбужденно и ставит корзинку на землю, я хочу тебе прямо сейчас показать, что я смогу. Подожди-ка, там стоит одна, да. «Опель»... - Брось, - говорит Иве и держит его за рукав, - для этого у нас еще достаточно времени. - Вовсе нет времени, - говорит Хиннерк и недовольно идет сбоку от Иве. - Холодный суп не вкусен, сегодня утром, когда я проснулся, я подумал, что как раз теперь последний момент, чтобы мы снова начали, и я думал, на Иве больше нельзя положиться, они его хорошенько обработали, он тоже связался с этими лизоблюдами, в скором времени он уедет в Южную Францию или на Ривьеру, и я думал, когда он крепко пришьет кнопку на своем пальто, то все кончено. Ты пришил...? Нет, пуговица на пальто Иве все еще висит на нитке. - Во всяком случае, это начинается, - говорил Хиннерк, крестьяне тоже сильно утратили дух, это были еще времена, что Иве, в начале, я всегда думал, что такие времена никогда больше не вернутся. Ну, и теперь! Это значит, что будет нелегко снова вскочить на поезд. - Нет, - говорит Иве, - легко это не будет, но что не сделали мы, то сделало время. - Да, - говорит Хиннерк, - время назрело. Всюду, но только у крестьян еще стоит что-то начинать, только на деревенской земле на дерьме еще что-то может прорасти, здесь оно только воняет больше или меньше. Что это там впереди происходит? - спрашивает Хиннерк. Там впереди что-то происходит. Люди вдруг начинают идти быстрее. Из переулков сразу что-то движется. В тени, на углах, в подворотнях стоят они. В переулках шум. Свистки звучат вдоль фасадов домов. Отдельные крики доносятся, как будто кто-то криком пытается приободрить других, Хиннерк останавливается и слушает. - Коммуна, - говорит он безразлично, - пошли дальше. Они продолжают идти. - Знаешь, - говорит Хиннерк, - мы тут должны сразу обмозговать это во всех подробностях. Я это здесь сразу не переношу. Здесь ничто меня не держит, и если меня что-то и держит, то я это бросаю. Быстрая полицейская машина проносится вокруг угла, и еще одна, и еще одна. Ау, Щеки, - говорит Хиннерк. - Но это так, - говорит он. Если я здесь что-то и выучил, так это то, что тут все дело в нас, в нас, Иве, в тебе и во мне, среди других. Потому что другие не могут. Они связаны, они дали себя связать. Они накрепко приклеиваются ко всевозможным вещам, больше всего в их воображении, так и должно было бы быть, и они больше не могут оторваться. Они висят, Иве, как мухи на клейкой бумаге, так пусть себе и висят. Все зависит от нас, от тех, которые, как мы, не висят, от кого же еще это может зависеть, как не от нас? - Смешно, - говорит Иве. - Что смешно? - спрашивает Хиннерк. - Ах, ничего, - говорит Иве, - просто точно то же самое мне уже говорил кто-то другой. - Это совсем не смешно, - говорит Хиннерк, - это так, и мы были бы мерзавцами, если мы не действовали так. - Ага, там они приближаются, толпой. Вон там впереди. Там они приближаются, много, вон там, впереди, такая чудная толпа полицейских, которая внезапно начинает бежать. И там хлопает выстрел, совсем слабый, наверное, из пистолета, и Хиннерк и Иве совсем рядом с ними. Теперь воют и орут коммунисты. - Продвигайся вперед, - говорит Хиннерк, - теперь мы должны обсудить, первым делом, план. - Да, - говорит Иве и смотрит на темную массу и на то, что там происходит. Он идет медленнее. Там Свиные щеки, - говорит Хиннерк безразлично, - там точно что-то будет. Бродерманн? - спрашивает Иве и останавливается. - Мне нужно туда... - и он высматривает вдоль улицы. - Совсем ничего, домой, - говорит Хиннерк. - Да брось, - говорит Иве, -
Бродерманн, - я хочу на это посмотреть. - Ну, как хочешь, - говорит Хиннерк, и они ждут. Вот теперь это начинается. Широким, плотным роем полиция проносится вокруг, выстрел и еще один выстрел, стекла дребезжат. Крик и свистки, очень близко. Назад, разойтись, и теперь резиновые дубинки свистят. Теперь карабины слетают с плеч. - Там они построили баррикады, ну что-то в этом роде, - говорит Хиннерк, - да такие маленькие, что это, они же не мешают людям, никому, нет, против быстрых машин. - Пошли, - говорит Хиннерк, и еще раз настоятельнее: - Пошли. - Оставь меня, - говорит Иве. - Старина, как они молотят. И мы просто стоим здесь и смотрим? Так не пойдет, Хиннерк, ты понимаешь? - Ну, что ж, - говорит Хиннерк, - тогда мне надо где-то пристроить мои крендели. Здесь в подъезде, ах, что, теперь уже не до этих дурацких кренделей. И бросает корзинку в угол и со злостью пинает ее еще раз, и разбрасывает ногой ее содержимое. Люди проносятся мимо, молодые парни с искаженными лицами. Кивера блестят, гетры блестят, в неистовой ярости спотыкаются мимо ребята, но здесь нет спасения, а там приближается стена. И там Бродерманн. У него тоже резиновая дубинка в руке. Стена ухоженных, натренированных, наполненных мускулами тел в крепких мундирах накатывается как машина, тут и там она немного раскалывается назад и вперед, чтобы потом сплотиться снова. И Бродерманн тут. Иве видит только его. Он слышит только его. Он не знает, что делает Хиннерк, он не обращает внимания на драку, он не слышит крики, и свисты, и выстрелы. Кто-то толкает его, он немного шатается, но сразу снова выпрямляется и стоит, широко расставив ноги. - Расходитесь, - громко говорит Бродерманн. Иве молчит и не двигается, Бродерманн стоит перед ним. Бродерманн узнает его, Бродерманн говорит: - Уходите! Иве смотрит ему в лицо. Там отвислые щеки и выбритый подбородок. Там серебряный воротник и звезда на полицейском кивере. Прямой, строгий нос и ледяные глаза. - Прочь отсюда, - говорит Бродерманн с самой крайней, самой напряженной строгостью. - Убирайтесь - прочь отсюда! И Бродерманн поднимает резиновую дубинку. Он поднимает ее высоко над головой и Иве видит, как все мышцы перекашиваются на этом широком лице. Тут Иве размахивается и со всей мощью сжатым кулаком бьет его снизу по подбородку и носу.