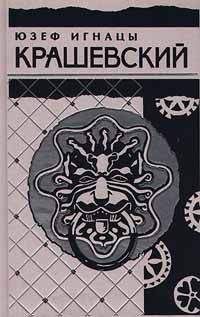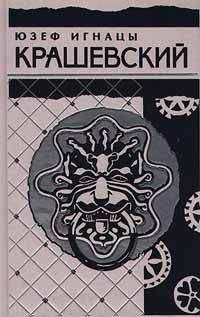— Благодарю, но на эти двести дукатов могу я рассчитывать, не правда ли?
— Если непременно будут нужны.
— Кажется мне даже, что уже теперь… А ты сегодня что делаешь? Не хочешь ли, чтобы я тебя ввел в мой мужской кружок? Что за люди!..
— Благодарю; я, как ты знаешь, люблю уединение, шум и веселость ваша нагнала бы только на меня скуку.
— Бедный чудак! Но где же ты будешь есть? — прибавил неотвязчиво Сильван.
— Здесь.
— Как здесь, в гостинице?.. Да тебя отравят. Я приглашаю тебя со мной к Мари, к Мишо, к Герте, увидишь, как мы здесь едим.
Вацлав пожал плечами.
— Благодарю тебя, — сказал он, — мне надо отдохнуть, а потом и за работу.
— Ты упрям. Ну, до свидания, до завтра, — сказав это, Сильван схватил шляпу, потряс руку Вацлава и вышел, насвистывая какую-то песенку, а за дверью пожал плечами.
«Скажите мне, — подумал он, — стоило ли Богу давать ему миллионы, когда он не умеет прожить порядочно и не почувствует, что они у него! Остановился в Виленской гостинице, будет есть сухое вчерашнее жаркое и забьется в угол, как простой шляхтич, который приехал шерсть обратить в деньги и вздыхает о своем очаге и толстой жене. Глуп, глуп! И соблазнить его нельзя, так ограничен! Даром погубит и деньги, и жизнь!»
Для пополнения сведений, которые читатель почерпнул из предыдущего разговора о ходе волокитства Сильвана и его отношений к дому барона Гормейера, мы должны поместить здесь письмо Сильвана к отцу, переведенное с французского, следующего содержания:
«У меня было уже какое-то предчувствие счастья, которое сопутствовало мне; могу им похвастаться, хотя немножко обязан и самому себе, потому что другой, на моем месте, наверное, не сумел бы, как я воспользоваться и ухватить судьбу за волосы. Представь себе, любезный граф, что миллионная женитьба, о которой мы мечтали, даже больше миллионной, у меня в руках, и в первый раз встретил я эту невесту в нескольких верстах от Дендерова. C'est fameux note 26! Девушка хороша, как ангел, они люди высшего круга, прекраснейшего образования и несметного богатства. Но я должен описать все в большем порядке».
Здесь следовала реляция известных уже нам происшествий, прибытие в Варшаву, первые шаги Сильвана и дальнейшие его расспросы и волокитства.
«Уже я узнал множество людей, хотя должен притворяться равнодушным, — говорил он мне. — Остальное, рассуждая и соображая, легко отгадать.
Барон Гормейер, сейчас же по приезде, устроился, как прилично его средствам и общественному положению; дом его великолепен, он завязал сношения с лучшими фамилиями; образ их жизни доказывает, что они должны иметь миллионы. Особенный экипаж для него и для дочери, шесть лакеев, камердинер, два повара, верховые лошади, комнаты меблированы с удивительною роскошью, серебро столовое, какого я не видел в моей жизни, дочь всякий раз в новых бриллиантах, которые ценят здесь в сотни тысяч, хотя, по всей вероятности, всех еще не видели, — словом, дом барский. Сам барон не легко доступен, холоден, немножко дипломатически подозрителен, меня, кажется, как старейшего знакомого принимает лучше всех. Я сумел, жертвуя несколько самолюбием, заслужить его приязнь и расположение. Несмотря на это, однако же, и он, и дочь, и вся дворня чрезвычайно осторожны и трудно завязывать близкие сношения; никто здесь не похвастается, чтобы он зашел так далеко, как я, хоть и я, несмотря на все усилия, ограничиваюсь только догадками и кое-какими на лету схваченными сведениями. Что касается дочери, ничего прекраснее не встречал я в жизни, и решительно влюблен. Познакомившись с ними немного, я не хочу brusquer le roman note 27: продолжаю его тихонько, иду шаг за шагом, осторожно, осмотрительно, тихо. Сначала, как и на всех, баронесса не хотела и смотреть на меня; теперь время от времени мы остаемся наедине, и, я вижу, барон нисколько не противится этому. Мне кажется, что ничего лучше не может встретиться и не встретится: сама попечительная судьба послала мне этого миллионера» и т. д., и т. д.
Письмо было длинно и заключало в себе различные замечания, основанные большею частью на догадках и соображениях, более или менее искусных. Но во всем этом хладнокровному глазу видно было, что молодой графчик увлекся прелестью двух черных очей и говорил только то, что ему очень хотелось сказать.
Старик Дендера, получив это письмо, прочел его со вниманием, нахмурил брови, а дойдя до конца, плюнул и пожал плечами. Он видел совершенно в другом свете то, что Сильвану казалось светлейшею будущностью, и немало испугался проекта сына, в способностях которого теперь усомнился.
— Глупый! — воскликнул он. — Надо спасать его, потому что он попадет в яму. Барон австрийский! Черт знает откуда! Черт знает что! Облечен тайной! Полунемец! Что-то подозрительное! Сильван уже позволил барышне запутать себя в сети: они играют с ним комедию, он готов попасться! Это несчастье, это решительно несчастье!
И прочитав еще раз письмо Сильвана, Дендера нахмурился еще сильнее.
— Я согласился бы лучше на меньшее, на какие-нибудь четыреста, пятьсот тысяч чистых, чем на эти миллионы, о которых он заключает по серебру, бриллиантам и подозрительному титулу! Это какие-то искатели приключений!
Сигизмунд-Август так был перепуган, что, если б не дела, сам бы поспешил в Варшаву и сына вырвал из опасности; но не было возможности тронуться с места: он должен был развязаться с кредиторами и до конца дурачить их видом своего ясного чела. Он решил ускорить выезд жены и дочери и действовать на Сильвана через них; это принудило его поделиться с графиней Евгенией полученным письмом и сделанными по нему заключениями. Супруги издавна уже были в холодных отношениях между собой, никогда не советовались, ни в чем не стремясь к одной цели; раздраженной и униженной графине довольно было, чтобы муж пожелал чего-нибудь, и это делалось предметом ее отвращения и насмешек. Можно было, следовательно, отгадать легко, что и тут, как скоро граф будет видеть черное, графиня увидит белое; так и случилось. Притворяясь покорной и послушной, с видом жертвы и подчинения выслушала Евгения и письмо, и заключения мужа, но, не принимая их к сердцу, слегка только пожала плечами. Она не хотела возражать, потому что поездка в Варшаву была и для нее, и для дочери сильно желанным развлечением; графиня скучала и мечтала о поездке и, хотя вовсе не разделяла мнение графа, а отношения Сильвана к семейству Гормейеров представляла себе счастливейшим случаем, замолчала, соглашаясь на все.
У Цеси были также свои побудительные причины, по которым она торопилась в город; она хотела поддеть там Вацлава и обдумала уже совершенно новый план действий. Ничто, стало быть, не противоречило поездке, кроме денег, несчастных денег, которых с каждым днем становилось меньше в Дендерове. Сильван взял из них небольшую часть, остальными надо было отделываться от привязчивости кредиторов, уплачивая им проценты, давая в счет капиталов, чтобы удержаться еще некоторое время. Ловкая Цеся сама дала отцу средство достать две тысячи дукатов, которые в эту минуту были так необходимы в Дендерове.
— Не беспокойтесь, папаша, — сказала она потихоньку, — Фарурей должен нам дать!
— Неловко, неловко; мы на этом можем проиграть! — воскликнул Дендера. — Старик, как ни влюблен, готов остыть, как мы заглянем ему в карман.
— На все есть средство, — ответила, улыбаясь, графиня, — доверьте мне, папаша, я беру на себя все дело, только бы притащить его сюда.
— Эта гораздо умнее Сильвана, — сказал самому себе граф. — Посмотрим, пусть попробует!
Где старый черт не может, надо послать молодую бабу.
Случилось так, что через несколько дней Фарурей, который после известного букета сделался чрезвычайно нежным, приехал расфранченный в Дендерово. Цеся приветствовала его с таким меланхолическим и печальным видом, что жених сейчас же, хоть немножко слепой, прочел в нем какое-то внутреннее огорчение. Она молчала, вздыхала, глядела на небо и, посматривая в глаза своей несчастной жертве, казалось, говорила ему о пожирающей ее тайне.
— Неужто вы не хотите доверить мне причину вашей печали? — спросил старик, хватая небрежно опущенную ручку.
— Где же вы прочли эту печаль? — спросила Цеся.
— Глаза и сердце не могли меня обмануть, — сказал умиленно любезник. — Ах, с нетерпением жду минуту, когда, прочитав на вашем лице признак малейшей печали, я буду иметь право спросить о причине.
— Минута эта еще очень далека! — воскликнула Цеся. — И с каждым днем, кажется, обстоятельства отдаляют ее.
Фарурей, если б не неприятная боль в ногах, которую чувствовал он сильнее с несчастной поездки за букетом, подскочил бы как ошпаренный.
— Что вы говорите! — сказал он с горячностью двадцатилетнего юноши.
— Да, — шепнула Цеся, — и вижу, что это должно протянуться долее, чем мы могли рассчитывать. Но не станем говорить об этом, не станем говорить: это мне неприятно.