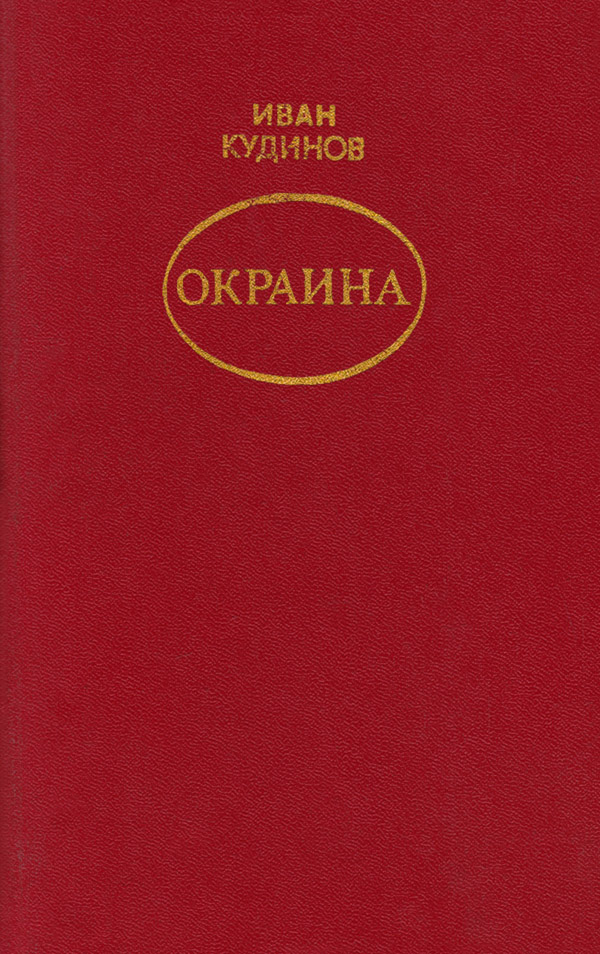оставляли. Несли царскую службу в Шенкурске штаб-офицер и несколько унтер-офицеров, не считая, разумеется, рядового состава… Унтер-офицеры в свободное время щеголяли при полном параде — мундиры с иголочки, пуговицы блестят, сапоги со шпорами, на шапках султаны… Важные, как петухи, они расхаживали по городу, время от времени возникая под окнами поднадзорных…
Иногда поднадзорных навещал будочный полицей-солдат, робкий и молчаливый парень, который, войдя в дом, обычно справлялся: «Как здоровье?» Должно быть, так велено было начальством, и он в точности исполнял приказ. Будочный мог явиться в любое время дня и ночи. Словом, жизнь шла своим чередом.
Собирались друзья на квартире Шашкова, пили чаи со «шлащтями», если таковые оказывались, обсуждали новости, почерпнутые из газет и писем, и спорили до хрипоты, не найдя общего взгляда на тот или иной вопрос.
Только Ювенал, со своею загадочной, спиритической усмешкой, помалкивал, вовсе не ввязываясь в разговор. Приходили еще несчастный, полупомешанный Фатымов, бывший гвардейский подполковник Соколов, сосланный в Шенкурск «за недостойные гвардейского офицера размышления», бывший штаб-лекарь Крыжановский, меланхолик и меломан, игравший по вечерам разные вариации на скрипке…
Он взмахивал смычком, прикасаясь к струнам, мягко и бегло проводил по ним, и печальная музыка, вырвавшись из-под смычка, напряженно звучала, наполняя комнату, не разрушая, однако, великого благостного покоя, наступавшего в мире, а как бы еще больше его подчеркивала, дополняя и усиливая. Томительное волнение охватывало каждого, в горле начинало першить… Вдруг кто-то всхлипнул… Ядринцев обернулся и увидел искаженное страданием, болью, залитое слезами лицо Фатымова.
— Родина надо! — сквозь прерывистые всхлипы говорил он. — Домой хочу…
Крыжановский взмахнул смычком, и рука его повисла в воздухе. Он медленно, вяло уронил ее на колени. Музыка оборвалась. И тишина — тоже.
Слышно стало, как лают на дальних и ближних улицах собаки. Пропел петух. Ему отозвался второй, третий… Кто-то прошел мимо окон. Дверь в сенях протяжно заскрипела, потом с еще более протяжным скрипом отворилась избяная дверь — и на пороге, точно привидение, возникла фигура будочного полицей-солдата. Он постоял с минуту, моргая белесыми ресницами, и вежливо-заученно справился:
— Как здоровье, господа?
Никто не засмеялся, слова не проронил. Сидели молча. Полицей-солдат постоял еще несколько секунд, деликатно покашлял в кулак, переступая с ноги на ногу, и тихонько, с видом исполненного долга, вышел.
Бланк был казенный, с гербовой печатью, бумага плотная, лощеная, текста, однако, немного — всего с пол-листа, но каждое слово выписано аккуратно, буквы округлены, с чуть приметным наклоном, прописные же, заглавные, украшены такими причудливыми вензелями, завитушками и завихрениями, что Александр Петрович Хрущов, западносибирский генерал-губернатор, прежде чем прочитать, ознакомиться с текстом, невольно залюбовался искусным почерком неведомого писца, с восхищением подумав: «Праздничный почерк, алмазный!» И только после этого не спеша пробежал глазами по тексту, вникая в содержание. Текст начинался несколько торжественно, как, впрочем, и подобает быть ему в случаях официальных:
«Господину генерал-губернатору Западной Сибири от 9 января 1870 года, № 129, Архангельск.
Сообщение
Имею честь уведомить Ваше Высокопревосходительство, что из числа высланных из Западной Сибири с лишением всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ, бывший учитель Николай Щукин умер в Пинежской городской больнице 22 декабря 1869 года.
За губернатора — управляющий казенной палатой
(подпись неразборчива)».
Хрущов нахмурился, перечитал еще раз и потер указательным пальцем переносицу: «Щукин… Щукин? Какой же это из них? Ах, да, — вспомнил наконец, — это, наверное, тот самый, который добивался моего разрешения на посещение церкви… Да, да! Он, кажется, уже и тогда был не совсем здоров… Но какой бестия этот архангельский писец!» — перескочил мыслями, снова залюбовавшись тонко и прямо-таки «художественно» выписанными буквами. Затем отодвинул бумагу, медленно, словно нехотя с нею расставаясь, и взял другую, тоже казенную, из Тюмени, написанную хоть и старательно, однако без того блеска, к тому же какими-то отвратительными бурыми чернилами.
Весть о смерти Щукина дошла и до Шенкурска.
Вечером, на сочельник, собрались у Шашкова и помянули бедного своего друга, которому, что бы там ни было, многим были обязаны сибиряки.
Скудное северное солнце расщедрилось, пригрело так, что к концу февраля снега осклизли, размякли, закапало с крыш.
Предчувствие весны возбуждало в душе странное беспокойство, и Ядринцев не находил места, все валилось из рук. Община их тоже потихоньку стала распадаться — Шашков неожиданно женился на дочери шенкурского почтмейстера, погрузившись в семейные дела, и виделись теперь они гораздо реже; Ушаров запил, никакие душеспасительные разговоры не помогали; штаб-лекарь Крыжановский заходил иногда со своею скрипкой, но и он, как ни старался, не мог развеять мрачного настроения…
А тут еще ко всему прочему прибавилось журнальных забот: редактор «Дела» Благосветлов оставался верен себе — и в каждую статью непременно вносил какую-нибудь несусветную отсебятину. Заметишь это, когда получишь готовый номер, когда поправить уже ничего нельзя. Вот и размахивай кулаками после драки!.. И деньги не шлют — ни «Дело», ни «Азиатский вестник», в первом номере которого напечатаны рассказ Ядринцева «На чужой стороне» и статья Шашкова «Иркутский погром»… Можно было бы только радоваться, если бы не «ложка дегтя» — отсутствие денег. Привыкнуть к этому нельзя. Безденежье становится унизительным, потому что мешает работать. «Один выход, — насмешливо думает Ядринцев, — жениться, как вон Серафим. Надо бы зайти к нему, попроведать…» Вот ведь метаморфоза: раньше, когда Серафим жил один в своей холостяцкой квартире, Ядринцев мог без раздумий явиться к нему в любое время дня и ночи, а теперь… Теперь не всякий раз удобно. Но все же решился и пошел — хотелось отвести душу.
Серафим встретил приветливо, обрадовался его приходу, выговаривал:
— А я думал, ты забыл дорогу к нам, третий день не показываешься. Собирался зайти к тебе. Ничего не случилось?
Ядринцев дернул плечом, словно стряхивал с себя что-то цепкое, невидимое, и губы его покривились в брезгливой усмешке — верный признак дурного настроения…
— Что может у нас тут случиться… — неопределенно махнул рукой. — Как семейные дела?
— Идут. Но что с тобой? Выглядишь ты, прямо сказать, не очень… Не захворал?
— Выгляжу я, как и положено выглядеть ссыльнопоселенцу, пытающемуся собственным горбом пробить себе дорогу в будущее… — с тою же брезгливой усмешкой ответил Ядринцев. И вдруг взорвался. — Как еще можно выглядеть? Благос без ножа режет. «Азиаты» молчат, как воды в рот набрав. Нет, скажи, откуда эти инквизиторские приемы?..
Шашков взял друга за руку, мягко сказал:
— Успокойся. Все образуется. Вот увидишь. Хочешь чаю?
— Благодарю. Но мне бы сейчас впору не чаи распивать,