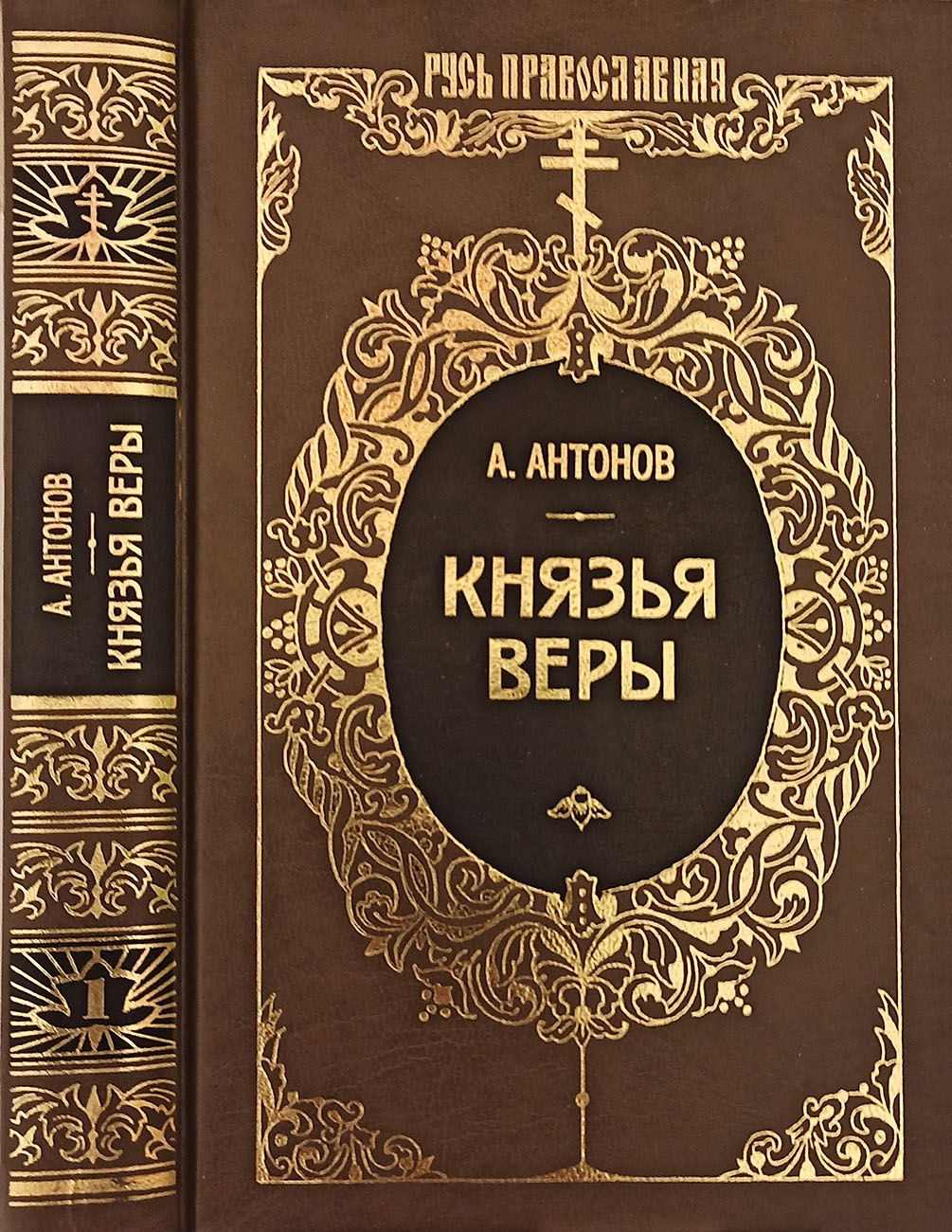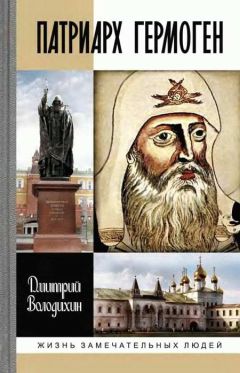мог такое помыслить?!
— Опосля стыдно было: что дадено Предвечным — неприкасаемо.
— Вот и славно, и выздоровел. Ты, однако, выпей со мной настоечки монашей. — И весело пропел: — Ой, окуд-ни-ца ли-ха!
— Кроме сыты, ничего не беру многажды лет, — возразил Гермоген.
— Да сие зелье — отрада от Господа, — щурясь и пуская искры в Гермогена, пел Окулов. Быстро же взял сулею, затычину вынул и подал вино патриарху. — Не откажи, Ермогенушко, враз нуда пройдёт, потому как на волшебных травах зачато...
— Пригублю с тобой, друже. Помню сие монашеское питие. — И приложился Гермоген к сулее, и полился в душу живой огонь жизни, поднимающий всё существо ввысь. — Ох, оживил ты меня, Петруша!
Пётр принял от Гермогена сулею, пожелал ему:
— Дай Бог тебе свершить то, на что сподобен. — И тоже пригубил из сулеи. — Да теперь иди слагай грамоту, пиши борзее, пригвозди злочинцев. Я же тут на лавке прикорну, дороженьку с ног смотаю.
— Оно и впрямь должно круче сказать! И скажу! — Гермоген шагнул к аналою, рука налилась силой, мысль стала ясней, и гневные слова легли на бумагу споро: «Посмотрите, как отечество наше расхищается и разоряется чужими, какому поруганию предаются святые иконы и церкви, как проливается кровь неповинных, вопиющая к Богу. Вспомните, на кого вы поднимаете оружие: не на Бога ли, сотворившего вас; не на своих ли братьев? Не своё ли отечество разоряете? Заклинаю вас именем Господа Бога, отстаньте от своего начинания, пока есть время, чтобы не погибнуть вам до конца; а мы, по данной нам власти, примем вас, обращающихся и кающихся, и всем Собором будем молить о вас Бога, и упросим государя простить вас, он милостив и знает, что не всё вы, по своей воле, то творите; он простил и тех, которые в сырную субботу возстали на него, и ноне невредимыми пребывают между нами их жёны и дети».
Отложив лебяжье перо, Гермоген помолился и повернулся к блаженному. Пётр не спал. Его лицо было свежее, глаза играли.
— Ох, Ермогеша, мягок ты. Я бы написал круче. Помни, все, кто убежал в Тушино, — тати и мшеломцы. Ты пиши, пока не остыл.
Гермоген покорно взял перо и чистый лист бумаги.
— Пиши. «Мы чаяли, что вы содрогнётесь, воспрянете, убоитесь праведного суда, прибегнете к покаянию. А вы упорствуете и разоряете свою веру, ругаетесь с церквами и образами, проливаете кровь своих родственников и хочете окончательно опустошить свою землю». — Окулов встал, прошёлся за спиной Гермогена, спросил: — Мыслишь тако же, аль иначе?
— Тако же, брат мой. — Гермоген отложил перо, подошёл к Петру, положил руку на плечо. — Взбодрил ты меня, и я молодость вспомнил. Да то, как ты стрелу из моей груди достал, как на заставу через степь меня принёс. Оклемавшись, я тогда подумал: хорошо бы солнце ещё раз узреть. И увидел твоей молитвой. А с той поры кануло полвека. Да всё в бою, всё впритин. Вот и устал.
— Ты, Ермогеша, не жалься, не приму, ибо дух твой расслабить не хочу. Зрю твой путь, как и прежде видел: терний по горло и выше. Да токмо ты и способен ноне вывести Русь из тьмы. Нет другого противу врагов крепкого стоятеля-адаманта, защитника православной веры... Вот и крепись, выводи паству из геенны огненной. — Пётр ходил вокруг Гермогена, как шаман, не сводил с него цепких глаз и всё говорил о горестях России. Да взял наконец Гермогена за руку и просящим голосом произнёс: — Ермогеша, ты токмо не гони меня от себя. Пособлю тебе нести тяжкий крест. А один ты и не осилишь.
— Спасибо, златоуст, что пришёл на подмогу. Теперь идём в трапезную и допьём то, что принёс в сулее.
Петру сие пришлось по душе. Он был голоден: дорога весь запас смолола. И два престарелых воителя покинули опочивальню. А за трапезой Пётр поведал Гермогену своё новое пророчество.
— Ты меня знаешь, Ермогеша, — начал Пётр, — лухтить не сподобился. Тако же и впредь всё правдою обернётся. Слушай: сразу после святок в ночь на шестое января самозванец Митька сбежит из Тушина. В крестьянском зипуне, зарывшись на санях в солому, удерёт со своим шутом Кошелём в Калугу.
— Заарканить бы его, супостата, — возрадовался Гермоген.
— И след бы, да ты погодь. — И Пётр засмеялся, лучики заиграли. — Атаман Ивашка Заруцкий руку к нему приложит. А она у него чи-жо-ла-я, казацкая! Тебе же против ляхов народ поднимать надо. Тяжкое сие дело. Но выдюжим, а животов не сохраним. Да оно ить во благо. — И Пётр снова засмеялся: — Ого, как сказка лихо кончается.
Наступал рождественский сочельник, когда приходило время подсчитывать сделанное за год. Но патриарх не копал прошлое. Он думал о том, как проводить святки побыстрее. Да похоже, с ним была в согласии вся исстрадавшаяся Русь, потому как впереди было невпроворот трудной ратной работы.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
СМЕРТЬ КСЕНИИ И МИХАИЛА
Ксения Годунова стояла на дворе Новодевичьего монастыря, близ палат, построенных отцом для царицы Ирины, её тётушки. Ксения пряталась в них от неласкового мира, и давно уже Москва не видела её. Нонче поутру вышла она из палат посмотреть на небо и увидела, как стая воронья гнала со стороны Кунцева раненого сокола, как над Москвой-рекою пошла на него впритин и в смертельной схватке растерзала. И сокол упал на берег реки чуть в стороне от монастыря. Знала Ксения, что воронью никогда не одолеть сокола, да чьё-то злодейство помогло злым птицам. И Ксения побежала на берег реки ещё надеясь спасти птицу, помочь соколу, чем можно. Но белогрудый и сизокрылый князь неба был мёртв. Смерть вольного сокола больно обожгла сердце Ксении. Она побледнела как полотно. Её прислужница Устя, холопка лет двадцати, прибежавшая следом, взяла Ксению за руку и тихо позвала:
— Матушка царевна, не след тебе от чужой беды млеть.
Но Ксения не шелохнулась. Она смотрела на птицу, а видела не её, но сражённого вражьей рукой любого сердцу князя-сокола Михаила Скопина. Это он лежал на прибрежной мураве, вытянувшись во весь свой богатырский рост и широко раскинув руки-крылья. Ксения опустилась на колени, и её рука потянулась к голове птицы, словно к лицу князя, она прикоснулась к ней и ощутила холод смерти, увидела кровь на ладони. У