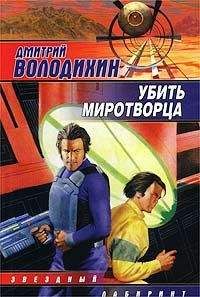– С кем воюете-то? – в тон ему, принимая манеру простой девки, поинтересовалась Стази.
– С ними и воюем, сволочами… – Далее посыпалось нечто невообразимое и непередаваемое по ненависти и грязи языка. – Мы и стоим тут, чтобы этим сукиным сынам к союзничкам было не пробраться.
Значит, РОА близко, это был шанс.
И Стази осталась. С самого начала она сумела поставить себя так, что о ее каменное равнодушие разбились даже неуклюжие ухаживания командира, а через пару недель, действуя холодно и расчетливо, она перебралась с их кухни в штаб мыть полы, а заодно и стучать на машинке. Все вокруг говорили на чудовищной смеси чешского, русского и немецкого, были полны уверенности в скорой победе, а потому довольно беспечны и незлобивы. Над ней смеялись, уверяя, что она спит со своим кобелем, но не трогали. И весьма скоро Стази спокойно смотрела карты. Часть РОА, как она поняла, стояла в полусотне километров под Прагой, а другая в районе Линца – Райнбаха. И поскольку Федор никогда не говорил ей о Праге, а упоминал Богемию, то, скорее всего, он был именно там. Но прорваться туда оказалось не так просто, как ей показалось сначала. Партизаны плотно перекрыли все дороги, по лесам постоянно ходили патрули, и, заглядывая в карты каждый день, Стази с тоской видела, как кольцо вокруг южной группировки стягивается все туже. Открытых боев не было, перебежчиков тоже. Из отрывочных разговоров ситуация становилась для Стази все более ясной – и все более отчаянной. Зажатая южная группа всеми способами пыталась выйти на связь с союзниками, и кому-то это удавалось. Так в конце апреля американцам сдались все воздушные силы, потом с яростью говорилось о каком-то генерале Ассберге, сумевшем пробраться к американцам, минуя чешские коммунистические засады и козырявшем чем-то таким, что союзники дали ему и его отрядам послабление. Наконец прошел слух еще о каком-то русском генерале, который сумел просто подружиться с американским комендантом и тем самым выиграл для своих солдат какие-то привилегии. Однако, как было совершенно ясно, никто не давал РОА гарантий в самом главном вопросе жизни и смерти: выдадут их Советам или нет. Большинство сходилось на том, что все эти расшаркивания союзников только до окончания войны, ибо они просто боятся, что в противном случае загнанные в угол власовцы начнут такие бои с американцами, которые им и не снились с фашистами.
Стази больше всего удивляло поведение чехов. Откуда взялась такая ненависть к русским? Не к немцам, на которых они честно работали всю войну и которые уничтожали их тысячами, а к русским, добровольцам, в глаза ими не виденным. Ни о какой славянской общности не было и речи, и только слепое фанатическое приветствие шедшего с востока большевизма и желание уничтожить все, что ему противостоит. Затмение, в котором столько лет жила Россия, наплывало теперь на Европу, и последним островком веры и борьбы оставалась преданная всеми РОА.
Ночами, глядя в густую, почти черную синеву неба, так напоминающую глаза Федора, Стази с запоздалым раскаянием корила себя за то, что слушалась его и никак не участвовала в делах армии и КОНРа. Была бы она связисткой, санитаркой, она оставалась бы сейчас с ним, с ними, настоящими русскими людьми, а не с этим подонком, советским капитаном. Фракасс вздрагивал и тявкал во сне, и, прижимаясь к нему от предутреннего холода, Стази на короткие часы забывалась, так и не находя выхода.
Олесинский периодически требовал, чтобы она переводила допросы немцев, причем вызывал ее только для офицеров; простых солдат, которые сдавались десятками, расстреливали без разговоров. Да и у офицеров его интересовало практически только одно: власовцы, к которым он относился с какой-то патологической ненавистью. Немцы открещивались от РОА, называли их почему-то белогвардейцами, кляли своих генералов, связавшихся с русскими, и производили в большинстве своем впечатление неприятное и жалкое. И каждый раз, вызываемая в штаб, Стази с ужасом ждала, что вот сейчас на месте немецкого офицера окажется русский. Впрочем, зачем тогда ее звать?
Она мыла полы, низко повязав голову косынкой и подоткнув подол все того же единственного платья, в котором провожала Федора и в котором уехала тогда из Панкова. Руки ее огрубели, но от физической работы и жизни на воздухе тело налилось, и ей все труднее стало уходить от навязчивых приставаний и чехов, и русских. Грязная вода заливала пол в пыли и окурках, Стази гоняла тряпку и не сразу обратила внимание на шум, раздававшийся с улицы, но, когда услышала, что-то вздрогнуло в ней. Шум был не обычный, а какой-то возбужденно-злой и торжествующий. Он приближался, и она инстинктивно отогнала воду в угол к лежащему и тоже тревожно поднявшему уши Фракассу. На крыльце уже слышались ругательства и дыхание разъяренной толпы. Стази наклонилась еще ниже, закрывая собой собаку. В комнату наконец ворвалась толпа партизан, окружавшая кого-то, через толпу протиснулся Олесинский и громовым голосом приказал всем выйти и оставить его наедине с пленным. Ворчащая недовольная толпа схлынула, и Стази, едва успев прикусить губу, увидела перед столом любимого заместителя Федора – Владимира Баерского. Он стоял спокойно, по офицерской привычке чуть выставив вперед ногу, и сжимал в руках стек. Но белые пальцы делали последние усилия, чтобы не дрожать.
– Вот кто к нам пожаловал, – ернически ухмыляясь и распаляя сам себя, начал Олесинский. – Вот уж кого не ждали. Как это вас угораздило, генерал, а? Промашечка вышла? Ну-ка, поворотитесь-ка, посмотрим, что на вас за форма. Экая странная форма, не находите? – Баерский молчал, сузив глаза, и только рука его уже никак не могла унять дрожь. – Это что же, немцы вас так одели? Как шута горохового. За какие такие заслуги? За то, что жопы им лизали или чего посрамнее? – Стази, не дыша, все ниже склонялась к полу, стараясь вжаться в стену и стать незаметной, невидимой. Но Олесинский уже разошелся и начал сыпать матом, поминая не только власовцев, но даже императора Николая. Лицо Баерского с широко расставленными миндалевидными глазами и узким ртом стало белым до синевы. – Ах, молчишь, сука?! – взвизгнул Олесинский и, обежав стол, приблизился к пленному вплотную. – Молчишь, потому что крыть тебе нечем, потому что иуда ты, продал родину за жирный кусок! Ничего, мы Россию от таких предателей вычистим! – И тут Стази, как в страшном сне увидела, что Баерский медленно занес руку и с наслаждением, с оттяжкой ударил стоявшего перед ним по лицу стеком крест-накрест.
– Рук о тебя марать не хочется, мразь, – процедил он и демонстративно сцепил руки за спиной.
На круглом лице Олесинского быстро багровел крест.
– А-а-а! – заорал он, но, вместо того чтобы броситься на генерала, как представила Стази, он отскочил назад. – Гошек! Петер! Ко мне! Повесить его! Немедленно, тут же, на первом суку! А ты тут что, сука? – Он наконец увидел согнувшуюся Стази. – Вон отсюда со своей тварью, убью!
Она едва успела выскочить, моля Бога, чтобы Баерский не узнал ее, а через несколько минут тело Баерского уже тихо раскачивалось в петле на одиноком платане у штаба. Стази рвало за углом и, задыхаясь, мешая блевотину и слезы, она хваталась за Фракасса и снова падала, и солнечный зайчик от начищенных сапог бил ей по глазам.
В тот же вечер, плохо соображая и полностью отдавшись интуиции и нюху Фракасса, она ушла в лес под веселье у костров по поводу так славно попавшегося предателя. Скоро зарядили дожди и, ночуя, как зверь, в ямах под корнями, Стази через три дня вышла к Линцу.
Но войск КОНРа там уже не было.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКАИз книги П. А. Артемьева «Первая дивизия РОА. Материалы к истории освободительного движения народов России (1941–1945)», London (Canada): Изд-во СБОНР, 1974 г.
Страшные дела рассказывали власовцы, побывавшие в то время на советской стороне, которым каким-то чудом удалось бежать и пробраться в Западную Германию. Расправа, которая была учинена над многими солдатами и офицерами Первой дивизии, была поистине чудовищной.
Все, независимо от того, добровольно ли они перешли или были силой захвачены, разделили одинаковую участь. Вот что рассказывают очевидцы.
В последнюю ночь, накануне роспуска Первой дивизии, на сторону советских войск перешёл офицер с группой своих солдат. Их водворили вместе со всеми ранее захваченными, кроме офицера, которого оставили в штабе. На другой день рано утром всем власовцам приказали построиться. Их было более тысячи человек. Перешедший накануне офицер был приведён к построившимся в сопровождении группы советских офицеров. Он был одет в советскую форму с погонами капитана. Лицо его было бледным. Он с трудом сдерживал свое волнение и должен был произнести речь. После некоторого колебания он громким, надрывным голосом объявил: