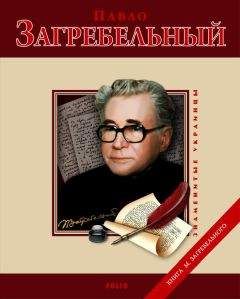Откровенность? А разве она откровенна? Каяться? В чем же, перед кем и почему? Сам папа вот здесь заявляет, что стыд не нужен ни человеку, ни богу. Отнять у человека стыд, лишить стыда женщину – что же тогда останется? Голая истина для голых людей?
Евпраксия даже не заметила, как последние слова произнесла вслух. Но папа не смутился, он будто бы даже развеселился, потому что заговорил доверчивей как-то, спускаясь с неприступных своих высот, сочувствуя молодой женщине. Ну, да, обычай… стыдливость… но, мол, еще папа Григорий Первый, обозначая сравнительную тяжесть грехов, на первое место поставил superbia – гордость, а уж следом за нею – luxuria, то есть любострастие, беспутство. Бунт духа против бога и бунт плоти против бога приравниваются по тяжести своей. Отношения мужчины с женщиной порождают нежелательное состояние души, мужчина, охваченный восторгом, что вызван женщиной, отвлекается мыслью от бога, вот почему отношения их пронизаны греховностью и величайшими опасностями. В пучину плотского греха втягивает мужчину женщина, ибо она – язычница по природе своей.
– Мы со святейшим папой не язычники, не язычники, – встряла наконец и Матильда, тем самым подав знак папе, что холодного отчуждения уже было достаточно, пора переходить к сочувственной доверительности, здесь ведь собрались равные, почти равные лица. Урбан сошел с трона. Он оказался таким же невысоким, как и Матильда. Учтиво пустил он Евпраксию и Матильду чуть впереди себя, занял место между ними и, медленно прохаживаясь так, втроем, по мозаичному безграничью холодного зала, стал пространно вещать не о милости, не о готовности своей прийти на помощь измученной молодой женщине, не о желании отстоять правду, а о раскаянии, о том, что противоположное исцеляется противоположным же – contrariis sanatur: то есть – гордыню должно ломать смирением, жадность излечивать милостыней, безделие – старательностью в труде, разговорчивость карать обетом молчания, обжорство – постом, а любострастие – воздержанностью. Все едины в грехе, хоть и не всех следует мерить одной и той же меркой. Она императрица, лицо в сем мире высочайшее, следовательно, и судить ее и о ней вправе тоже только высочайшие особы. Он своей властью мог бы снять с нее грехи и невольные и вольные, наложить на нее епитимью или не накладывать, но, вняв просьбе, он хотел бы дать императрице совет.
– Мы со святейшим папой хотим дать вам совет, ваше величество, – мгновенно подхватила Матильда, так, будто не доверяла папе в его собственных решениях.
– Буду благодарна за совет, жду его, ваше святейшество, – почтительно склонила голову Евпраксия.
Папа неторопливо заговорил о соборе. Собор в Констанце? Нет, тот уже был. Там произошло нечто огорчительное для чести ее величества, но поелику произошло, то ничего с этим уже не поделаешь. Обратиться с апостольским посланием в защиту императрицы? Никто не защитит своей чести лучше, нежели тот, кому она принадлежит. Весной он созывает новый собор. В Германии?
Нет, в Италии, в Пьяченце. Было бы весьма похвально, если бы императрица сама выступила на соборе, рассказала прелатам в правдивых подробностях обо всем, что пришлось ей пережить по злой воле императора, по причине буйного скотства сего негодника, и правдой, откровенностью своей и проявила бы всю свою чистоту и превосходство над ним… Ради нее ли созывается собор?.. О, нет. Пусть императрица остается спокойной. На соборе должны быть разрешены важные вопросы веры. Следует надеяться, что в анналах христианства то будет собор знаменитейший, ибо от него поведут начало великой священной войны за торжество веры Христовой, однако, ведомые безграничной милостью божьей, они готовы уделить внимание также и императрице, ее жалобе на недостойное поведение германского императора. Пусть императрица знает заранее: ее выслушают с величайшим вниманием и высоко оценят ее мужество и намерение послужить целям святой церкви.
– Церковь? – воскликнула, не удержав мгновенной вспышки гнева, Евпраксия. – Запятнана моя честь, я испытала нечеловеческие страдания, меня опозорили, мне никто не пришел на помощь… Уговорили обратиться к тем, кто съехался в Констанц, а что вышло? Где же была церковь? Где бог?!
– Дочь моя, бог во всех делах наших. И за все воздается!.. Когда Людовик, сын императора Карла Магнуса в своей любви к истине не мог смолчать и раскрыл, какое распутство царило при дворе, сколько сотен наложниц имел сам император и сколько незаконных детей они принесли ему, то умы ограниченные готовы были осудить поступок Людовика, святая же церковь стала на его защиту.
– И назвала Людовика Благочестивым, ваше величество, – тут же добавила Матильда.
– Вы обещаете мне благочестие? Разве оно дается, а не живет в человеке? – уже тихо спросила Евпраксия.
– Мы со святейшим папой забыли известить вас, ваше величество, что император добивается вашей выдачи, – вместо ответа зло заметила Матильда.
Евпраксия с невеселым удивлением взглянула на графиню. Та напоминала острозубого хищного зверька, который так и норовит вцепиться тебе в горло.
Ведь знает, как Евпраксии трудно, в каком безвыходном положении она оказалась. Знает – потому и уверена Матильда, что отступать императрице некуда и что должна она будет согласиться со всем предлагаемым (а может, требуемым?) папой. Знает все Матильда, но для большей уверенности хочет нанести еще один удар, тяжелый, предательский, смертельный. Или забыла, что сама говорила о требовании императора, или нарочно повторила о нем при папе?
Евпраксия сделала вид, будто поражена в самое сердце словами Матильды, а та, тешась испугом молодой женщины, восторженно вобрала в себя воздух и выдохнула с шумом милостивое и неопределенное:
– Но мы со святейшим папой никогда, никогда…
Что "никогда" – так и осталось тайной, заверений своих императрица им еще не сделала, следовательно, не годилось слишком много обещать ей, Матильда прервала речь там и тогда, где и когда надлежало прерваться.
Евпраксия, подчиняясь злой игре этих жестоких людей и не видя никакого другого выхода, тихо сказала:
– Я благодарна вам, ваше святейшество, за совет и хотела бы воспользоваться им, коли будет на то ваше высокое согласие и благословение.
Папа молча благословил Евпраксию, протянул ей для поцелуя свою изнеженную руку. Матильда, заискивающе заглядывая императрице в лицо, проводила ее туда, где ожидали придворные дамы, столь долго откладываемая аудиенция, таким образом, состоялась, не принеся Евпраксии ни надежд, ни облегчения – одну лишь снова пустоту и боль в душе.
Все же вздохнула Евпраксия немножко свободней. Хотя бы не будет больше тяготеть над нею неопределенность и неизвестность. Еще одно усилие, еще одно унижение в этих краях постоянных унижений, – и конец. Свободна, свободна! От их милостей, от их роскоши, от их жадности и мстительности, от многолетнего надругательства. Ради этого освобождения готова на все.
Хотят услышать от нее про грех плотский? Услышат – даже в ушах зазвенит!
Наложат на нее епитимью? Пускай, пускай выдумывают для нее, невиновной, наказания за провинность – она снесет их охотно. Заставят спать в воде, в крапиве, на рассыпанной скорлупе от орехов, повелят распахнуть и держать долго руки крестом, петь псалмы без конца, бить, долго бить ладонями по полу, бичеваться заставят, невзирая на сан императорский, – вынесет все.
Скажут, соблюдай пост семь недель, а то и семь лет – согласна на это, хотя могла бы, по обычаю, нанять себе заместителя в епитимье – юстуса, выплачивая этому человеку по три солида в неделю (даже осужденная к семилетнему покаянию могла бы очиститься быстрехонько; пусть за твой счет посидят на хлебе и воде сначала двенадцать человек три дня, потом семь раз по сто двадцать человек тоже три дня, в итоге получится ровно столько дней, сколько содержится их в семи годах).
Но что дни и годы в сравнении с освобождением? Постепенно пустота в душе сменялась радостным ожиданием. Евпраксия нетерпеливо звала день, когда ворота Каноссы откроются перед нею и она отправится в свое последнее путешествие по чужой земле, еще императрица, но уже не рабыня. Вырваться из Каноссы – преодолеть неволю! Она изрядно – истинно так: изрядно! – настрадалась в этих стенах под присмотром сторожевых псов Матильды. Может, и папа – тоже верный пес графини Тосканской, хотя и грех такое молвить. Но ведь не зря в самом названии замка есть что-то от "собаки"[15]. Люди тут не живут – грызутся, будто бешеные собаки, ненависть громоздится в здешних каменных дворцах и церквах, плодится и размножается за тройными стенами и бездонными рвами, а затем разлетаются по всему свету гнилые брызги, расползаются моровой язвой, разносятся ветрами коварства.
И она попала в руки этих людей. Из неволи императорской в неволю папскую.