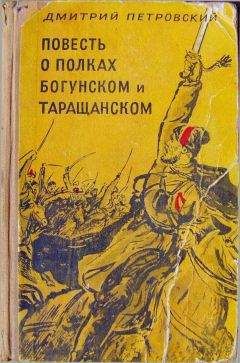Нет! Не может этого быть!..
И как бы опровергая это горестное известие, эту весть о смерти, двинулись живым порывом бойцы вперед, как будто все еще вел их и звал за собою сам живой Щорс, И двинулись порывом бойцы и побежали молча, выдвинув вперед винтовки с примкнутыми штыками.
И мимо бегущей цепи на лафете, запряженном Щор-совыми конями, промчалось, привязанное ремнями к лафету, тело героя.
— Провези его перед строем бойцов для прощанья, — сказал Богенгард Бугаевскому, ведя в бой нежинскую цепь.
Богенгард верхом догнал день и сменил Бугаевского, отдав ему коня.
— Поезжай сопровождать… — Ему надо было сказать «сопровождать Щорса» или «сопровождать тело Щорса», но он не мог выговорить — настолько было это больно и не хотелось еще раз назвать словами и этим уж как бы узаконить происшедшее и примирить себя с ним.
Бугаевский, разгоряченный боем и чуть забывшийся в бою, с деловой поспешностью, не споря с Богенгардом, сел на лошадь, с которой только что слез Богенгард, и стал было ему рассказывать, в каком направлении, по его мнению, надо повести цепь. Но, услышав «ура», он понял, что объяснять тут нечего, и Богенгард махнул рукой: что, мол, тут-то все понятно, а вот там, куда тебе надо ехать, там до сих пор ничего не попятно.
Лошадь нетерпеливо заржала и, топчась на месте, покосилась в ту сторону, откуда только что прискакала: видно, там остались ее друзья.
Выйдя из мгновенного оцепенения, Бугаевский дал шпоры и, ничего не ответив Богенгарду, ускакал. Он дал коню поводья, так как не знал, где, собственно, он находился и в какую сторону надо ехать, чтобы догнать Щорса.
«Догнать Щорса, — подумал он, — странное выражение!". Теперь его уже не нагонишь: он прямо шагнул за границу бессмертья, оставив в сознании тысяч любивших его и веривших ему людей свой бессмертный прекрасный образ героя. Он весь в движении — в устремленности к победе, — не менее неистовый и беспокойный, чем друг его батько Боженко, тоже недавно ушедший в бессмертие славы, с тем только отличием, что его трезвый и ясный ум никогда не затемнялся гневом. Нет, даже и в гневе и в яростной ненависти к врагу он, как поэту сочиняющий ясные рифмы и находящий классическую форму и для гнева, создавал свои тончайшие разработанные приказы, которые станут для историков достойным памятником партизанскому командиру, одному из первых стратегов революционной войны. Взявшись за руки, Щорс и Боженко рядом встанут на памятнике революции, выкованные из бронзы».
Конь примчал Бугаевского к той дороге, на которой стояла батарея. И у батареи, на лафете, запряженном конями Щорса и его конем, лежал покрытый шинелью и привязанный ремнями Щорс. Бугаевский взглянул на него сверху и подумал: «Какой же он прекрасный! Я даже и не замечал раньше, как он красив».
Лицо Щорса было действительно как будто высечено из мрамора…
Слезая с коня, комиссар почувствовал, как щека его стала совершенно мокрой от непроизвольно, беззвучно полившихся слез, которых он что-то с детства и не помнил.
И, подойдя к лафету, он поцеловал Щорса в лоб, перевязанный окровавленным платком. Богунцы быстро проходили мимо; увидев, что комиссар поцеловал Щорса в лоб и заплакал, не выдержали и тоже, быстрым шагом проходя мимо лафета, наклонялись и целовали комдива кто куда успел: кто в лоб, кто в губы, а кто и просто целовал шинель или ремни, стянувшие безжизненное тело. И на каждом лице оставалось мокроештао от слез; растертое пыльной рукой, оно становилось какой-то отметиной скорби. «Не дожил, ах, не дожил Николай до победы и не успел он дать свое генеральное сражение — свою мечту. Ну, мы дадим его!..»
— В бой, товарищи!.. Поспешите в бой!.. — крикнул Бугаевский, одушевляемый новым приступом скорби и гнева. — И никого не щадите из этих изменников!..
Щорс был положен на стол в большом штабном зале в бывшем дворце Голицына, увитый букетами и ветками осенних цветов. И боевые знамена клонились над ним — будто спящим, суровым и строгим, с ясным лицом.
Сменяемые каждые пятнадцать минут, стояли у гроба своего полководца курсанты его военной школы — его полевой академии. Весть о смерти Щорса каким-то странным образом обогнала прибытие Бугаевского, привезшего на почетном лафете тело героя. И весь Житомир всколыхнулся. Люди теснились у входа во двор штаба с цветами и лентами, и трудно было отбиться от желающих отдать ему последнюю честь прощанья. Курсанты распоряжались всем. Первыми в почетный караул стали вместе с Бугаевским и Карцелли вновь прибывший командарм и член Реввоенсовета Маралов. Глядя на него, комиссар Бугаевский думал свою тайную думу, желая разрешить мучивший его вопрос: чего добивался Реввоенсовет, посылая этого человека в спутники генералу Миронову, создавшему наиболее благоприятные условия для этой смерти, этой, быть может, тяжелейшей для- всей Украины утраты?
«Не это ли. вам было нужно?..» — невольно задавался он тревожащим его вопросом. И, проходя рядом с Мараловым после смены в карауле, Бугаевский сказал:
— Я возьму ваш салон-вагон для отправки тела Щорса. Моя же квартира и квартира Щорса в вашем распоряжении, — добавил он, вкладывая в это всю горечь вызова.
Лицо Маралова перекосилось при этих словах, но он ничего не ответил, а лишь наклонил голову в знак согласия.
Весть о гибели Щорса разнеслась с такой быстротой по армии и всюду по Украине, с какой не разносилась дотоле ни одна весть. Чем объяснить это? Да тем же, чем объясняется связанность живого с живым. Щорс был воплощением всего идеального в борьбе украинского народа за свободу. Он был устремлен так, что всяк, кто жаждал свободы, шел за ним. И не было в его личных действиях и одного поступка, который бы не отвечал справедливости и силе этой борьбы и этих идей. Народ всегда и везде умел оценивать явления по их истинной значимости, если они выходили из тени неизвестности и решались поставить себя при полном свете. Широчайшая известность Щорса в стране, совсем еще недавно всего лишь командира полка, потом — бригады, наконец — дивизии, объяснялась тем, что народ зорко и ревностно следил за теми, кто исполнял его волю к победе, и не забывал ни одной высокой заслуги служения ему, как и не прощал ни одной измены этому великому делу. Щорс был воплощением чистоты идей народа и его суровой и чистой морали, не говоря уже о том, что он был великий боец, великий организатор и стратег того времени. Люди проходили и проезжали через территории, занятые его войсками, и слышали о нем. Всякое большое доброе дело требует легенды и, вызвав ее из жизни, заставляет и ее — саму легенду — служить себе. Щорс служил легенде героизма, и она служила ему — герою.
И без всяких телеграфных проводов, хоть бы они и несли тяжкую весть о великой утрате, — на крыльях молвы облетела в одну ночь всю Украину весть о гибели Щорса. Щорса можно было похоронить в Житомире, но страшное надругательство над телом батька Боженко, разорванным на куски врагами, еще свежо сохранившееся в памяти, — ведь прошло только полтора месяца, — не позволяло решиться на это, тем более что и сейчас город находился почти в столь же угрожаемом положении. Щорса надо было увезти подальше и не рисковать тем, что враг произведет надругательство над его прахом.
Собственно, это было проявлением слабости и внезапно наступившей после смерти Щорса своеобразной депрессии.
Так ли хоронили батька Боженко, положенного в землю под разрывы чуть ли не над самой его могилой неприятельских снарядов? То был воинственный вызов сильной еще духом армии, у которой был такой вожак и такая надежная опора, как Щорс.
А теперь не было самого Щорса, и страшно казалось всем оставить его, мертвого, здесь как вызов. Могила Щорса не должна быть разрытой. Никто здесь не верил новому командованию, хоть никто и не говорил против него.
Не было такой военной неудачи, которую немедленно не ликвидировал бы Щорс, — он никогда не допускал, чтобы впечатление от неудачи успело бы хоть в малой мере повлиять на бойцов, и, отвечая на всякое поражение немедленным ответным ударом, восстанавливал равновесие и на поле сражения и в состоянии духа бойцов.
Даже курсанты, выведенные в бой после смерти Щорса, вернулись в Житомир для проводов комдива в дальний путь и, видимо, страдали в этом бездействии печали.
Житомир как бы поник, и стало повсюду тихо, как в комнате больного. Даже прохожие на улицах разговаривали тихо. И на всякий громкий разговор другие бы оглянулись, как на неуместный поступок. Только слышен был исполняемый знаменитым щорсовским оркестром моцартовский «Реквием» и грустные мелодии Шопена.
«Это перед грозой такая тишина», — мелькнуло в голове у Бугаевского. Но сам он был лишен возможности отвечать грозой на эту тишину. Он должен был ехать.
Гроб был установлен в салон-вагоне, а это, вероятно, был тот же самый салон-вагон, в котором полтора месяца тому назад скончался батько Боженко. У Бугаевского временами поднимался гнев, когда ом вспоминал тот тон, который позволил себе по отношению к Щорсу бывший генерал, а ныне командующий, и комиссар думал: «Расскажу Ворошилову и Сталину расскажу! Такому положению нельзя оставаться: армия разложится под таким командованием. Единственная дивизия, которая вынесла на себе все, обезглавлена и отдана в руки обалдуям, или предателям, черт их разберет».