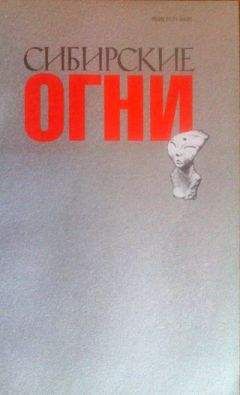На носу и лбу дяди Пети аж капли пота выступили, а глаза невеселыми стали — будто тоже увлажнятся вот-вот.
— А теперь он в этим… в суде меня засудить хочет. Понял? Мне же нагадил, и мне отвечать!.. Я ж, как с больницы вернулся, увидал такое дело — за грудки его взял, погоны чуть не посрывал… Ну, не «чуть» — сорвал один!.. А при свидетелях было, весь дом сбежался… Теперь он меня, мать его ломать, засудит!..
— Не те времена, дядя Петя, — попытался я успокоить старика. — Меня вот тоже один хмырь засудить недавно хотел, да не вышло.
— Брось, Костя, времена еще те! Захочут засудить — засудят. Он ведь мне давно мстит, участковый… Хорек такой, молоденький, тридцать пять где-то… Я ж про него в газету писал районную — не пропустили, а почитать ему, видать, дали. Еще наглей стал. Под меня копать начал, хорек…
Взяв ковшик, оставил меня ненадолго, вернулся, осторожненько на дугах своих ковыляя, расплескать боясь.
— Мы сёдня, Костя, сволочей всяких вспоминать не будем! Не стоют они того!.. — разлил опять до краев. — Давай выпьем, чтоб нам с этими засранцами вовсе не знаться!
Такой тост грешно пропускать…
— Теперь давай петь! — утирая губы, сказал старик. — Чо за гулянка без песни? Я начну, ты подхватывай.
Любой бы, слушая пение дяди Пети, но не видя его, обманулся, подумал бы, что не старый вовсе мужчина поет — не по годам зычен его голос, тяжестью лет не надсажен. И песню-то он затеял, которую без такого голоса не вытянуть:
Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он.
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом.
То ли бражка начала действовать, то ли взяла за душу старая песня — расчувствовался я, вспомнилось вдруг детство: какой-то праздник, может, и День геолога, в деревянном клубе «Октябрь» хор экспедиции поет «Вечерний звон»… Самодеятельность, конечно, но у меня, мальца, впервые услыхавшего эту дивную песню, сладко замирает сердце, как во сне, когда летаю. Боясь пошевелиться, слушаю я, как туго сплетаются мужские и женские голоса, как с заднего, самого высокого ряда, выстроенного полукругом на сцене, разносится сумрачно-басовое «Бом!..» — и вижу сквозь прихлынувшие вдруг слезы такую молодую, такую красивую еще маму — она в первом ряду, самая маленькая, а в заднем ряду, на специально сколоченной для хора скамье, — отца, еще не облысевшего, молодого… И дивлюсь я: отец мой даже на гулянках, помнится, никогда не пел — нет, слухом Бог не обидел, по вечерам ведь частенько наигрывал он на мандолине, сам подбирал мелодии, а вот в голосе ни гибкости, ни силы… — однако в хоре вот петь решился!.. Может, потому лишь, чтоб с мамой не расставаться?..
— Чего не подпевашь? — выдернул меня из воспоминаний дядя Петя. — Эту песню одному петь нельзя…
Я ему про медведя объяснил, мне на ухо наступившего.
Старик искренно огорчился:
— Жалко, а то бы хоть в песне душу отвели!.. Слышь-ка, ты вот летом мне книжку свою подарил, помнишь? Так я ее в больнице всю прочитал, да… Кое-чо даже понял, а вот спеть из нее ничо не смогу!
— Так я песен и не пишу… — пробормотал я с виноватостью невольной.
— А зря! Люди петь хочут. Хоть какие заварухи, а без песен нельзя… Я, может, и темный, но так думаю: ежели запоют стихи твои, значит, нужны они людям.
На «больной мозоль» ненароком наступил…
— Мои запоют вряд ли… — вздохнул я и уже сам наполнил бражкой стаканы. — Давай, дядя Петя, за твою песню! Аж слеза прошибла.
Напрасно старик бражку свою «кисельком» назвал: после четвертого стакана были мы уже под хмельком, распахнулись навстречу друг дружке наши души, чуть ли не родней ощутили себя мы.
А с родным-то хоть чем поделиться можно.
— Не вышел, наверно, из меня поэт, — сказал я. — В юности мечталось: великим стану! А даже настоящим стать оказалось слабом… Что пил дико и баклуши бил, это даже не так страшно, страшней, что чересчур умным бывал, расчетливым… А Пушкин ведь писал: «Поэзия должна быть глуповата…»
— Вот это ты брось, — встрял дядя Петя. — Уж тако Пушкин писать не мог. Чо-то не помню…
— Да не в смысле — тупая или дурная, а — наивная, не расчетом живущая, не рассудочная… И даже не обязательно понятная: безумства самые необъяснимые в стихах могут быть, но когда это от сердца — тогда лишь по уму!.. — бражка-то старикова полету мысли пока не мешала, но веселья дать еще не могла, на слишком уж больную тему свернул разговор. — А мне вот за многое из писанины моей просто стыдно теперь! А самое постыдное, что все равно писать не брошу — будто проклятие на мне…
Старик верно понял, что утешать не стоит.
— Слышь, Костя, а я ведь для себя тоже кое-чо сочиняю, — признался он. — Песни складываю, частушки…
Тут вспомнил я о балалайке, которую заметил у него на стене в большой комнате, когда раздевался в коридоре.
— А спой, дядя Петя, сыграй! Тебя ведь под балалайку я и не слыхал…
— Айда тогда в залу! — пригласил хозяин.
В большой комнате у него Аленушка печалилась на стене о пропавшем братце Иванушке — то ли купил готовую репродукцию старик, то ли сам в рамочку поместил страницу из журнала. А на комоде фарфоровый Вася Теркин лихо растягивал меха гармони, белозубо лыбясь при том. Вот и подумалось мне, что в молодости дядя Петя был похож, наверно, на героя поэмы Твардовского. Но над диваном увидал портрет хозяина, переснятый со старой солдатской карточки: гимнастерка с погонами сержанта, грустно-растерянный с чего-то взгляд, не молодцевато вовсе сидящая пилотка, да оттопыренные уши на бритой под Котовского голове… «Нет, не Василий…»
Сели мы под портретом этим на продавленный диван, покрытый вылинявшим до телесного цвета плюшем, взял дядя Петя балалайку, по струнам легонько буцкнул, и ожила она в руках его разом, сыпанула во все стороны немудрящими звуками. Будто длиннющие бусы порвались, весело заскакали, упав, покатились, сверкая, разноцветные бусинки. Столь же немудрящим, но сверкучими были и слова в его частушках. Прошелся по вошедшему в политическую трескотню слову «рынок», которым назвать норовят «русский базар», пьянство, воровство и бандитизм помянул и даже ограбление людей государством через налоги… Я уж думал: долго мне, однако, слушать предстоит, если решил старик о всех бедах и болячках слово свое веское сказать, но частушечный поток оборвался вдруг.
— Не в ту степь поди? Эти… рихмы поди не те?..
— Да рифмы-то сносные… Вот только печально, что такие частушки сочиняются, — я положил руку на плечо старика. — Не обижайся, дядя Петя, просто от политики меня уже тошнит.
— А где ты тут эту… политику углядел? Это жись! От нее тоже тошно быват. Вот как сейчас живем — блевать не переставая…
— При коммунистах, скажешь, лучше было?
— А то нет? Срама такого не было, изгалятельства над рабочим человеком…
— Ничего себе! — вдруг почуял я, что волна злости поднимается во мне. — Вот вернутся коммунисты и кулаком тебя объявят: у тебя ведь трактор теперь. По-доброму отдашь, с радостью, или как?..
В глазах старика тоже вдруг злость сверкнула.
— Только и осталось — меня, старика, обирать!..
— А молодого соседа, значит, можно?
— Такого, как хорек-участковый, — нужно даже!
— Да такие-то как раз по дворам пойдут — «кулаков» на чистую воду выводить! Уж тогда он тебе, дядя Петя, погон свой попомнит!..
Злость во мне улеглась почти, в насмешливость выродилась, ну а хозяин сильно был за живое задет.
— И чо скалишься-то? Я тебе про Фому, ты мне про Ерему!.. Порядку в стране никакого, бардак, воровская власть!.. Раньше хоть порядок был…
— Так мы же сами к власти допустили таких вот, как сосед твой, и куда похуже!..
Еще злей стали глаза дяди Пети. Я уж думал — разразится сейчас: я, мол, не допускал, это вы, молодые… Но мудрей меня старик оказался — рукой махнул:
— Дорвались они до власти, а мы ушами прохлопали. Только ведь мы с тобой, Костя, договорились: сёдни сволочей не поминать… — балалайку отложил в угол дивана. — Неси-ка лучше стаканы да ковшик — выпьем за то, чтоб жись наладилась!
Пока я ходил на кухню, он к дивану табурет придвинул — вместо стола. Стакан наполненный поднимая, уточнил старик:
— А чтоб жись потекла ладно, всем нам и мозги и жилы поднатужить надо — даже мне, старику, о тебе чо уж говорить!..
Когда выпили, спросил он вдруг:
— Сам-то чо теперь пишешь?
— Роман, — ответил я с непроизвольной гордостью, потом лишь вздохнул. — Увяз в нем, похоже…
— Ух, ты! Роман!.. Как «Тихий Дон», ли чо ли?
— Куда уж мне!.. Совсем другое и не так…
— А про чо у тебя в этим… в романе? — интерес старика явно был искренним.
— Про меня. Ну, еще про Лота библейского, про Овидия…
— Не знаю таких… Толковые мужики?
— Толковые, не всегда путевые только…