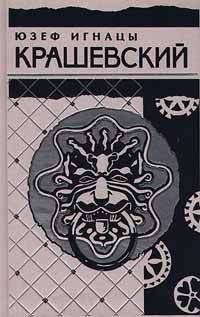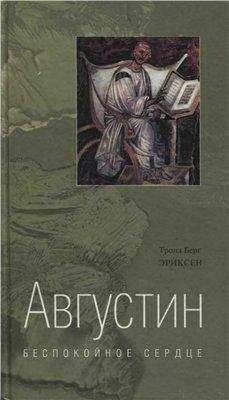И темная ночь закрыла своим пологом, с одной стороны, шумную радость, с другой — постылое, понурое сомнение в своих силах.
С наступлением ночи внезапно был отдан приказ выступать. Но в крепости об этом не знали. В темноте, как воры, шведы с большей, чем обычно, охотой стали собираться в обратный путь; снимали с батарей орудия, нагружали повозки, убирали палатки.
Только Констанция во рву заметила сборы шведов и в великой радости побежала к воротам и так стала стучать костылем, точно хотела их выломать.
— Господи Иисусе Христе! Что с тобой? — закричал брат Павел, отрываясь от столика, — пожар, что ли?..
— Впустите, впустите! — орала во весь голос нищая. — Я с доброю вестью!
Брат Павел поспешил открыть калитку, хотя уже отзвонили "ангела мирна".
— А что? — спросил он.
— Шведы собирают пожитки и отступают, — скороговоркой сообщила старуха. — Снесу эту колядку в монастырь.
И побежала шибко… Она застала всех в сборе в трапезной и, как привидение, остановилась в дверях. По пути она успела немного собраться с мыслями и не торопилась обрадовать братию радостной вестью, но хотела насладиться предстоявшим эффектом.
Когда присутствовавшие заметили нищую, ксендз Страдомский торопливо собрал со стола остатки хлеба и яств в корзину и вышел навстречу Констанции.
— Вот твоя доля колядки, служка Матери Божией! — сказал он.
— И я также пришла к вам не без приношения, — отвечала она, улыбаясь.
— Ну, что же ты принесла?
— Прощальный привет от Миллера.
— Как? Где? Письмо?
— Не письмо, а только поклоны.
— Что ты болтаешь? Какое он дал тебе поручение? Выкладывай! — стал допытываться тревожно ксендз Страдомский.
— Никакого… да только… шведы уже идут к возам, собираются и отступают.
Отец казначей побежал к настоятелю.
— Отче приор! Благодарение Богу! Шведы отступают, шведы отходят!
Едва разнеслась эта весть, как раздался такой радостный крик, что, казалось, стены трапезной рухнут.
— Кто сказал? Быть этого не может! — в смущении кричали все.
— Шведы отступают! — повторяли трусливые с безумной радостью.
И все толпились вокруг старушки. Кордецкий, протискавшись сквозь кольцо любопытных, подошел к Констанции.
— Как ты знаешь, раба Божьей Матери, что шведы отходят?
— И видела, и слышала: снимают орудия, увязывают возы, седлают лошадей, прощаются с монастырем.
— Да так ли это?
— Вернее верного!
— Дети! — воскликнул приор. — Пойдемте поблагодарим Господа и отслужим молебен. Может быть, все это только военная хитрость, но что Бог пошлет, пусть так и станется!
Немедля все разбежались из трапезной. Одни пошли к женам, обрадовать их радостною вестью, другие с Кордецким в часовню, третьи на стены, в надежде кое-что увидеть, а ксендзы на хоры.
Среди ночного мрака ничего не было видно; далеко разносился только глухой говор и скрип колес, и топот лошадей, и голоса солдат…
Констанция исчезла; она пошла, целуя свой кусочек хлеба, к Кшиштопорскому. Он, как всегда, был на посту, снедаемый злобой и тревогой.
— Слушай, — сказала ему старуха строго, пристально глядя ему в глаза, — неужели же тебя, заклятого врага, не тронуло явное Божие чудо? Неужели ты и теперь не обратишься к Богу? Отдай старцу его дитя! Прости и будешь счастлив!
— Ступай! — выкрикнул он с презрением. — Ступай, старая ведьма! А не то застрелю тебя как собаку.
Констанция всмотрелась в него долгим взглядом, исполненным сожаления и горя.
— Тогда… прощай, — сказала она тихо, — и пусть Бог в минуту гнева своего не попомнит твоих слов и простит тебя.
Старый шляхтич молчал, а нищая спустилась со стены, ища, где бы прикорнуть, так как темной ночью не могла уже добраться до своего рва.
Ночь была холодная, но Констанция привыкла к холоду. Прижалась к дверям костела, прикрылась лохмотьями, поскулила в кулачок и, шепча молитвы, закрыла глаза… Две слезы, свидетельницы затаенного горя, тихо навернулись на глаза… и струились так, слеза за слезой, всю ночь, пока она спала, до самого утра… струились из неиссякаемого источника, который отверз сон.
Как Кшиштопорский, сраженный пулей, падает бездыханный, как возвращается Ганна, и исчезает Костуха
Рассветало; восток заалел; взоры осажденных не могли дождаться дня; уставившись в сторону шведского лагеря, все старались увериться, правдива ли вчерашняя весть. Утренний туман не позволял ясно видеть окрестность; верно было одно, что шведы суетились и хлопотали. На банкетах, как в муравейнике, кишело людьми: мужчины, женщины, монахи и дети. Скоро прояснилось, и наступил день; правда сделалась очевидной: шведы спешно собирались в путь, сжигая, чего не могли взять с собой, уничтожая все, что попадалось под руку. Издалека доносившиеся крики мещан доказывали, что на прощанье шведы предавались грабежу и насилиям… Палатки, разобранные, уже были сложены на возы; по дороге медленно тянулись орудия, а народ, согнанный на постройку окопов, расходился по домам, либо толпился вокруг монастырских стен, чтобы помолиться, раньше чем вернуться в осиротевшие хаты.
Приор, несмотря на то, что был победителем, грустным взором окинул сегодня поле битвы. Сердце его тосковало о всех страданиях и жертвах народа, положившего здесь свою жизнь, полегшего на бранном поле. Он стоял молчаливый, величественный, недосягаемый, окруженный почти ореолом святости, защитник Ченстохова. Ибо день одоления вписывал бессмертное имя его в книгу незабываемых подвигов. Все хором воспевали славу его: мужество Маккавеев, непреодолимую твердость, терпение, непоколебимую веру; отныне всяк повторял вслед за ним:
"Ибо лучше нам умереть в сражении, нежели видеть бедствия нашего народа и святыни".
"А какая будет воля на небе, так да сотворит!"[42]
Среди тишины вдруг раздался выстрел и отчаянный крик: глаза всех обернулись по тому направлению, и все побежали скорей к северной куртине, где еще клубился синеватый дым. На банкете, раскинув руки крестом, лежал Кшиштопорский, корчась в предсмертных судорогах… Первым добежал настоятель и, не спрашивая, что и как, стал на колени, чтобы принять исповедь умиравшего.
Но предсмертная мгла уже застилала ему глаза: рот был искривлен последним содроганием жизни в борьбе со смертью; руки конвульсивно сжимались, и в ту самую минуту, когда ксендз осенил его крестным знамением, Кшиштопорский скончался.
Кшиштопорский пал жертвой шведского забулдыги-солдата, подкравшегося к самой стене в минуту всеобщей растерянности. Он, видимо, хотел сорвать свою злобу на католике за все понесенные под крепостью тяготы. Выстрел, сваливший Кшиштопорского, был последним.
Все опустились на колени около тела, вознося молитвы за его душу… в тишине раздались медленные шаги: шла нищенка Констанция.
Взглянула, вскрикнула, вскинув руками, и упала на землю.
Никто не обратил внимания на ее испуг, на непонятное горе, потому что все были поражены неожиданной смертью отважного шляхтича. Толпа лезла на стены, глазела, расспрашивала и молча хлопотала около тела.
Подошла также пани Плаза, взглянула, побледнела и пустилась бегом к своему жилью. А ксендз Ляссота пошел к брату, лежавшему в постели.
— Помолись, — сказал он, входя, — о душе Кшиштопорского; негодяй швед подстрелил его… умер.
Старец сначала как будто не понял брата: смотрел на него с открытым ртом и выпученными глазами. Потом медленно сполз и опустился на колени; душу его угнетала тоска, и он тихо читал "ангела мирна". А вспомнив, молясь, все свои горести, а также последнюю, наиболее тяжкую утрату, горько заплакал.
В эту минуту кто-то сильным толчком порывисто отворил дверь, и вбежала, ошалев от радости… Ганна. Бледная, как бы изнуренная долгим страданием, она бросилась прямо на шею старца.
— Дедка, дедуня! Опять я с тобой, опять у тебя!
Старик онемел; от радости у него захватило дыхание, он молчал и дрожал. Он стал обнимать Ганну, любоваться ею… даже не спросил, откуда она так вдруг появилась, а только прижимал к себе, точно боясь опять потерять. А она повторяла:
— Я с тобою, дедуня! Поедем домой!
Наконец, ксендз Ляссота, немного оправившись, начал допрос:
— Откуда ты?.. Где была?.. Что с тобой сталось?
— Я и сама не знаю, сколько лет просидела спрятанной.
— У кого?
— А, у очень хорошей женщины!
— Да кто она?
— Та самая, которой вы меня поручили…
— Я… тебя… поручить?.. — вскрикнул старец.
— Да кто бы другой мог это сделать? — спросила Ганна. — Значит, так было надо; только я ужасно намучилась в своем одиночестве.
— Да расскажи же, милая Ганна, где ты была? Кто тебя завел в это место?
Девушка, успокоившись, присела у ног старца и, целуя его руки, сказала: