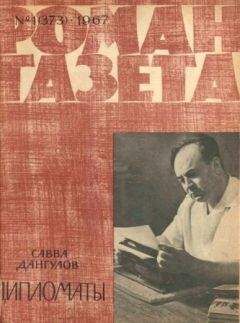— Ты не спишь, Петя? — Она выпростала из-под одеяла кисть руки. — Как там будет? — Она указала взглядом на окно.
Он дотянулся до ее руки.
— Этот парень… муж твой, что погиб под Солдау…
— Грика?
Он заметил: так говорят только на Кубани — Грика.
— Да, Гриша, он был человек стоящий? Она вздохнула.
— Очень… — Она выпростала всю руку, положила на одеяло, рука была тонкой, четко очерченной. — Он был человек необыкновенный, Грика. — Она вздохнула, помедлила, она чувствовала, что Петр ждет следующего слова. — Я заметила, парень с такой внешностью — баловень судьбы, белоручка, а Грика…
Она умолкла, а Петру хотелось договорить все, что не было еще сказано.
— Это ты по нем… черное платье надела? Она долго молчала, точно дожидаясь, когда тронется поезд и тогда грохотом и посвистом, стуком колес заколотит все, что было и должно быть сказано.
Но поезд не шел.
— По нем, Лель?
Она натянула одеяло, скрыв и плечи, и подбородок, и рот, только глаза были обнажены.
— Да, по нем, — произнесла она. — Убили его — точно сердце мое живое в огонь кинули. — Она вздохнула, будто не хватило воздуха. — Это такое варварство. Петя, такое варварство. А когда погиб, осталось чувство вины перед ним. Все казалось: никто не виноват, только я.
Поезд тронулся. Потек седой туман, нескончаемая полоска леса вдали, белая полоска снега в кювете, поля, перечеркнутые косыми линиями льда.
— Ты сказала, парень с такой красой — баловень? А я заметил, это бывает у художников.
— Ты знал такого? — спросила она. Он отрицательно покачал головой, засмеялся.
— Знал… такую.
Она улыбнулась.
— Там, Петь?
Петр подумал: скоро четыре месяца, как он уехал из Лондона, целых четыре. Не было бы того, что произошло в жизни Петра за эти четыре месяца, наверно, не пережить бы разлуки с Кирой. Но в эти месяцы одно событие следовало за другим, и события эти, как камни, падающие с гор, преградили реку памяти. Нет, реку памяти преградить нельзя — она вспухнет и разметет камин, не пытайся преграждать!
Ранним вечером он взял Лельку за руку и повел смотреть город. Они шли по Тверской, скрепив руки и размахивая ими, весело, как ходили, наверно, в детстве. По небу бежали облака, крепкие и яркие, точно каждое из них было завернуто по солнцу. Лелька раскраснелась, казалось, даже загар подрумянил щеки, прогнав и природную бледность и усталость, да и в глазах поубавилось сини. Они спустились к реке, долго шли по набережной, вспоминал свободную невскую воду. У храма Христа Спасителя перебрались на ту сторону и уже к вечеру добрались, счастливые и усталые, до Нескучного сада.
Было холодновато и ясно.
Он смотрел на нее, как она шла вдоль воды, к отражение в реке — светло-серое пальто, чуть-чуть взбитые и схваченные бантом волосы — было пригашено сумеречностью воды. И казалось, там, в воде, идет она, а здесь на земле, рядом с тобой, ее отражение. В воде она была больше похожа на себя. Все меняется в человеке, даже кожа, но обличье, будь то светское или, как сейчас, монашеское, труднее сбросить, чем кожу. Какая-то скованность движений, робость шага, неловкость и нерасторопность речи напоминали о монастырской церкви, о сводах келий и трапезных монастыря.
Вечером им выдали ключ от небольшого особняка в Староконюшенном, хозяева (уральские заводчики, жившие в Москве по зимам) выехали в неизвестном направлении. Видно, жизнь пресеклась в квартире на полуслове — подъехал грузовик, перенесли чемоданы и сундуки, шофер, быть может, даже не дал сигнала и не включил фар, и тихо покатили по затененным и притихшим переулкам большого мира, каким издревле был Арбат, и канули во тьму, московская тьма — как топь, она принимает, но не отдает.
Петру почудилось: дом точно ожесточился. На Петра пошли в атаку и запахи и вещи. Рядом со старым креслом, стоящим у камина, Петр увидел мельничку для кофе; Петр выдвинул ящик, и оттуда пахнуло нюхательным табаком. На кухне Петр нашел гончарный круг — что делали на нем здесь? В прихожей, рядом с бархатным салопом, в каких ходят замоскворецкие купчихи в церковь, висел головной убор индейца, расцвеченный синими перьями. В мансарде, где красный угол сплошь был заставлен иконами, Петр обнаружил черный клобук.
— Благочинный носит клобук? — спросил он сестру, которая неотступно следовала за ним не столько из любопытства, сколько из страха.
Она отрицательно покачала головой.
Казалось, она ответила, имея в виду прямой смысл этого вопроса, не осознав еще обидной для нее сути.
Больше в этой комнате он не задерживался.
А потом они вошли в галерею, и Петр увидел деревянный желоб. Длинный, хорошо сбитый желоб протянулся из одного конца галереи в другой, в конце деревянной канавки лежали красный деревянный шар и жестоко разметанные по сторонам фигуры. Видно, последнее, что сделал хозяин, навсегда покидая дом, тщательно поставил своих воинов, с веселой и злой удалью пустил в них красный шар. Удар пришелся в самое ядро кона, и деревянные фигуры кинуло вразброс. Петр решил повторить удар и, к страху и трепету Лельки, которая издали наблюдала за братом, выстроил деревянное воинство и пустил красный шар. Раздался гром, такой глубокий и мощный, что, казалось, эхо пронеслось по ближним и дальним комнатам. Как ни силен был замах, шар едва докатился до того края канавки — деревянное воинство продолжало стоять нерушимо.
А все-таки не проста сестра и, наверно, не просто понять ее. Чем она еще осчастливит Петра? Чем сокрушит? Если и был у нее когда-нибудь бог, то это любовь к мужу — большего бога она не ведала. Она не очень знала жизнь и принялась искать своего бога там, где отродясь его не было. Благочинный понял это прежде, чем смогла уразуметь она, и пытался обратиться в Грику. Однако благочинный не все может. А пока Лелька тихо идет по большому и холодному дому, идет все тише, и зыбкая тьма, тьма недобрая, точно колеблется в ее глазах.
Странно все-таки: мельничка, гончарный круг, наряд индейца, деревянный желоб… неожиданное и нелепое сочетание вещей. Неужели когда-нибудь Петр поймет, к чему здесь был гончарный круг и синие перья индейского вождя? А потом Петр подумал: «А может быть, в каждом доме можно найти что-то похожее? Вот попробуй заберись в дом Белодедов на Литейном — найдешь там и монашескую скуфью, и прямоугольные гвозди, которыми ковал лошадей отец».
Наутро, когда Петр окликнул Лельку, она не отозвалась. Он пошлепал в соседнюю комнату. Постель была даже не разобрана. Видно, сестра ушла еще ночью.
Петру не терпелось посмотреть новые апартаменты наркомата. Чичерин его удерживал.
— В этом доме мы жильцы временные, — заметил Георгий Васильевич. — Для посольства нет особняка лучше, для наркомата он мал. Если есть возможность жить в одном доме, какой резон расселяться в трех?
Чичерин был прав. Переехав в Москву, наркомат расселился в трех особняках: нарком и оперативные отделы — в тарасовском на Спиридоньевке, часть аппарата — на той же Спиридоньевке в особняке Рябушннского, наконец, консульская служба — где-то на Хорошевке.
Но взглянуть на красивый дом всегда приятно, тем более, если в этом доме предстоит работать, и Георгий Васильевич уступил настояниям Петра: Чичерин и Белодед пошли из комнаты в комнату. Хозяева особняка давно выехали, но — природа не терпит пустоты, в особняке поселились знатные беженцы из Питера — большие и малые чиновники, которых вызвала к жизни мартовская революция.
— Мы на вас управу найдем, узурпаторы! — Человек в шубе с каракулевым воротником хотел сказать нечто еще более дерзкое, но, оглянувшись, увидел Чичерина. — Простите, вы не новые хозяева?
— Новые, — произнес Чичерин, не останавливаясь.
— С кем имею честь?
Чичерин назвал себя.
Человек нетерпеливо переступил с ноги на ногу.
— Вы… интеллигентные люди, проехали полмира… — Он на секунду запнулся. — Как вы можете… допускать такой произвол?
— Но это же революция!
— Мы-то знаем, что такое революция! — сказал господин в шубе.
Петр улыбнулся.
— Так то была другая революция!
Человек в шубе побелел.
— Самозванцы! Самозванцы! Кто вас выбирал?
— Что вы сказали? Повторите! — грозно обернулся Петр.
Человек, качнувшись, полетел по лестнице вниз. Было слышно, как он кричал внизу, и голос доносился сюда, как со дна колодца:
— Это же бог знает что!
Петр остановился. Как ко всему происшедшему отнесется Чичерин? Он был потрясен тем, что увидел: в нескольких шагах от него стоял Репнин, доброжелательно-строгий, заметно похудевший за две недели жизни в Москве.
— Мне сказали, что вы где-то здесь, — заметил Репнин, адресуясь к Чичерину и Петру. — И, признаться, я не устоял от искушения…
Эти несколько слов были произнесены столь невозмутимо, что не оставалось сомнений: Репнин не был свидетелем напряженного диалога с человеком в шубе. А может быть, он так произнес эти слова именно потому, что был свидетелем? С тех пор как они столкнулись с Петром в споре о дипломатии догматической и творческой (так, кажется, выглядела окончательная формула?), Петр видел Репнина не однажды, но каждый раз Петру казалось, что Репнин настойчиво, хотя и осторожно, пытается продолжить спор.