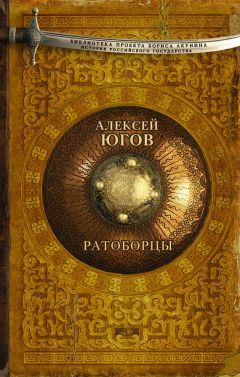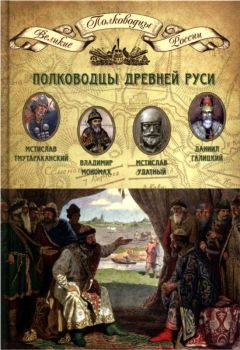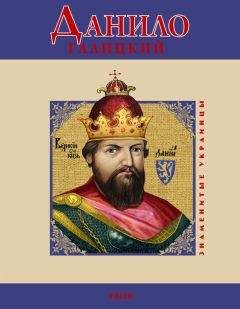Александр поднялся: он весь был сейчас как бы одной сплошной волной гнева.
— Смотри, Андрей!.. Страшно слушать безумия твоего! Как бы крови твоей псы не налакались!.. Помни: я тебе не потатчик!..
— Не бойся. Не донесу! Сиди себе в своем Новгороде!.. Все знают: ты только на немцев храбрый… А тут…
— Что «тут»? Договаривай! — закричал Александр.
— А тут… у стремени Батыева до конца дней своих станешь ходить… да и нам велишь всем… да и детям…
И вдруг голос у Андрея пресекся слезами, и, застыдившись этого, он отвернулся и отошел в дальний угол.
И это сломало уже готовый рухнуть на его голову гнев Александра.
Невский молча глянул на Дубравку, покачал головою и почему-то на цыпочках, словно бы к тяжелобольному, подошел к брату и обнял его за плечи.
— Ну, полно, безумец, — ласково проговорил он. — И что это у нас с тобою сегодня? Да ведь у нас с тобою и лен не делен!..
Разговор о татарах продолжался и после того, как братья помирились. Не открывая старшему ни сроков, ни ближайших своих мероприятий, великий князь Владимирский уже не скрывал от брата принятого им решенья помериться силами с Ордой.
— Не тянуть надо, а дергать! Все принести в жертву, а свалить!
И снова, сдержав гнев свой, Александр принялся объяснять брату, почему несвоевременно будет сейчас любое движенье против татар.
— Нельзя, нельзя нам против татар восставать! — говорил Невский, как бы вдалбливая это свое глубокое убеждение в голову брата.
— А почему? — заносчиво спросил Андрей, останавливаясь и вполоборота взглядывая на брата.
И в это мгновенье Дубравка искренне любовалась мужем. «Словно кречет…» — подумалось ей.
— А потому нельзя, — продолжал Александр, — что на Запад почаще оглядываться надо…
— Какую истину изрек! — насмешливо воскликнул Андрей Ярославич. — Или я младенец!.. А что Запад? Германия вся в бреду…
— А Миндовг?
— Что ж Миндовг?.. Ты сам знаешь: с Данилом Романовичем…
— Данила Романович благороден. Перехитрить его мудрено. Но верою его злоупотребить можно… Так слушай же: Миндовг с Данилом Романовичем роднится, а сам корону от папы приемлет! Епископ кульмский, брат Гайденрайх, он безвыездно — ты про это знаешь? — у него, у Миндовга, живет. Вместе с ним и переезжает. Так ты сперва Миндовга от магистра, от Риги, оторви, а потом…
Но и здесь, хотя всем троим понятно было, что «потом», Александр предпочел не договорить, а только многозначительно усмехнулся.
Андрей на этот раз не перебивал: ему и впрямь было внове все, что говорил сейчас о Миндовге Александр. Однако еще большие неожиданности услыхал он вслед за этим.
— Марфа, королева Миндовговая, даром что православная, — продолжал Александр, — но ты знаешь… — Тут Невский взглянул на Дубравку: — Прости, княгиня, за просторечие! Ведь она, эта самая Марфа, королева, почитай, открыто, «на глазах у всех, живет с Сильвертом, с рыцарем… А Миндовг — старая рысь! — ты думаешь, не знает про то? Знает! Только глаза закрывает. А чего ради, как ты думаешь? А того ради, что этот самый брат Сильверт у папы Иннокентия в чести. Что ни год, паломничает к престолу Петра. Хочет легатом быть… Ливонии и Пруссии!.. Вот почему Миндовг и видит, да не видит… А может, ты все это уже слышал? — спросил Александр.
— Да нет, где мне знать! — с полуобидой отвечал Андрей, вздернув плечом. — Тебе виднее: у тебя ведь сто глаз, сто ушей.
— Побольше, — спокойно и чуть насмешливо поправил его Александр.
Андрей замолчал.
Александр незаметно посмотрел на Дубравку. Подобрав под себя ножки в бисером расшитых туфельках, княгиня сидела, храня молчанье и на первый взгляд даже и спокойствие, кутаясь в яркую, с тяжелыми кистями, шелковую шаль, которая закрывает ее до колен.
Уже прохладно, и маленькие оконницы терема с цветными круглыми стеклами опущены наглухо. Слышно, как где-то ударяет время от времени в чугунное било усадебный сторож. Доносится ржание ярых, стоялых жеребцов из конюшен и грохот о деревянные полы их тяжких, кованых копыт…
Александра трудно обмануть: спокойствие княгини — только кажущееся, но ее волнение выдается лишь тем, что краешек ее нижней губы то взбелеет, слегка притиснутый зубами, то еще больше зардеется, словно лепесток гвоздики.
«Какая же, однако, ты скрытная девчонка!..» — думает Александр.
И спор между братьями опять разгорелся.
— И как ты не хочешь понять! — гремит Александр. — Кабы татары одни! А то ведь татары — это… только таран! — Невский обрадован этим вдруг пришедшим уподоблением и повторяет его: — Таран! Чудовищный таран. И он уже было покоился, этот таран. А кто же сызнова подымает его на нас? Кто его раскачать вновь хочет? Папа! Рим! Да еще рижаны — божьи дворяны!.. Ты что же думаешь — зачем легат папский Плано-Карпини был послан к Кукж-хану аж до Китая?.. Ну, то-то же!.. А ты говоришь!..
У Андрея какое-то слово так и рвалось с языка.
— Эх! — сказал он, как бы досадуя, что не может открыться перед братом. — Сказал бы я тебе нечто, да ежели бы знать вперед, что ты сам задумал, что у тебя в голове!..
Невский отделался шуткою:
— Ну, знаешь, у меня ведь одна только подружка — подушка, да и то не всякую ночь!
— Вот то-то и оно! — огорченно подтвердил Андрей Ярославич. — Научился молчать и я!..
— Ну, это дело другое!.. И давай забудем, о чем мы тут и говорили… — сказал Александр.
Но Андрею трудно было отойти от их разговора. Глаза его блеснули.
— Только то я напоследок должен сказать тебе, — воскликнул он, поднимая руку, — внук Мономаха Владимира поганое их стремя держать им не станет!..
Предвещанием и угрозой прозвучало ответное слово Александра:
— А я вдругорядь тебе говорю: я тебе не потатчик!.. О людях помысли, ежели уж своя жизнь тебе за игрушку!..
Внезапно третья сила, дотоле таившаяся, вошла в их битву: Дубравка отбросила шаль и выпрямилась.
— А я так думаю, — дыша гневом и гордостью, сказала она, оборотясь лицом к деверю. — Уж если — саван, то царская багряница — лучший из саванов!..
Лицо Андрея озарилось радостью от внезапной поддержки и гордостью за жену.
Александр Ярославич одно мгновенье молча смотрел на нее, а потом гнев, которого уже не было у него силы сдержать, потряс его с головы до пят.
— А я так думаю, княгиня, — вскричал он, — ты не Феодора, а Андрей твой не Юстиниан!.. Багряница! Царская багряница!.. — издеваясь, передразнил он Дубравку. — Не была ты в Орде! Тогда посмотрела бы, в каких багряницах княгини наши — и муромские, и пронские, и рязанские, и черниговские, да и китайского царя царей дочери, — в каких они багряницах на помойках ордынских кости обглоданные у псов выдирают!.. Стыдись, княгиня!..
И, не попрощавшись, Александр покинул покои брата.
Первого татарина — как переправлялся он через Клязьму, держась за хвост лошади, — увидал пастушок. Мальчуган сидел на бережку, на травке, посреди ракитового куста, и делал себе свирель из бузины. Как хорошо, как жалостно запела она! Отрок радовался. Это уж не для коров, не для стада, — в такую можно сыграть все, что вспадет на душу.
Стоял полдень. Зной пригнетал к земле. Завтра — Борисов день. Престольный праздник в Духове. Девки будут завтра упрашивать и всячески ублажать: «Сыграй ты, Олешенька, сыграй ты, млад отрок милой, какую хочешь песенку, а мы хоть поплачем…»
Есть ли что на свете жалостнее, и чище, и прозрачнее, чем бережно-заунывный звук пастушьей свирели? Жалейкою недаром прозвали ее в народе: жалеет она человека!
…Играет пастушок на пригреве солнышка — и уж не он сам, а отроческая душа его выпевает, и уж у самого полнятся слезою глаза: плохо стало видать и деревья, и речку, и облака — мреет и зыбится все… Все, как есть, понимают его сейчас: и березка, под которой сидит, и сосны, и солнышко, и речка Клязьма, и облако, и коровы, и старый пастух Рубанок. Вон сидит он на зеленой косматой кочке, согбенный, режет узорами палку, и клонится, клонится к коленам старая его, изможденная спина!.. А вот услыхал, как играет Олеша, — и бодрится и распрямляется!..
Поет и вздыхает волшебная дудочка пастушка Олеши. Даже каменные глыбуны, красные и пестрые, что лежат на отмели, до половины в воде, лоснясь и отблескивая на солнце, — даже и они задвигались!.. Да нет, то вовсе не камни, то Олешины коровы, от зноя залегшие в воду…
Вдруг — что это? — косматая, злая морда конская сивая — этаких коней и не бывает у мужиков! — словно бы вынырнула из воды, посреди мутной Клязьмы. Плывет конь, плывет! Напряженно вытянутая шея, словно бы тонет конь, — так всегда ведь плавают лошади. Ближе, ближе… и вот, закинув передние копыта на обломившийся зеленый берег, и еще раз закинув, обтекая и лоснясь мокрою шерстью на солнце, встал на берегу сивый конь и храпнул ноздрями, пробуя ветер…
Пастушок отстранил от губ жалейку и, не выпуская ее из рук, приподнялся и попятился подальше в кусты…