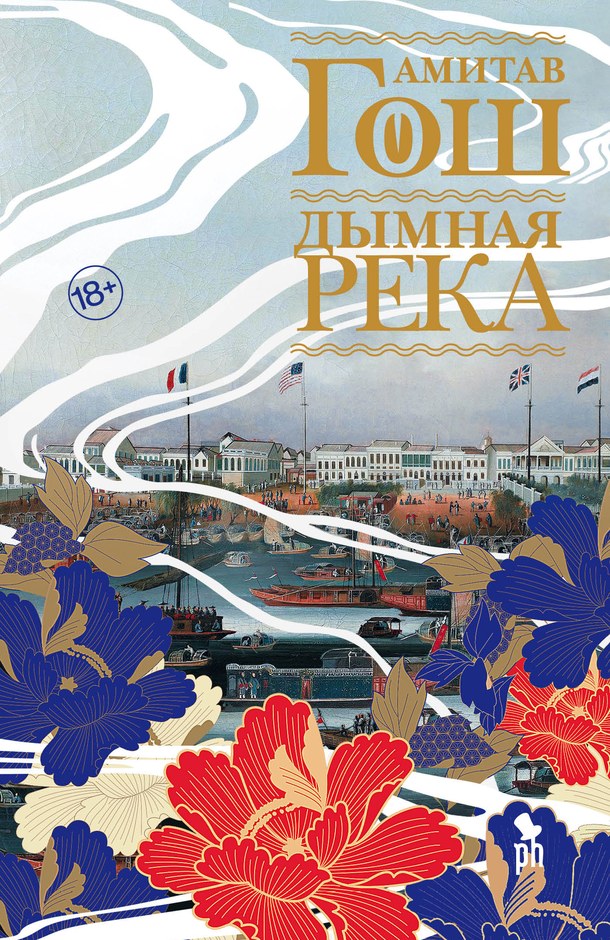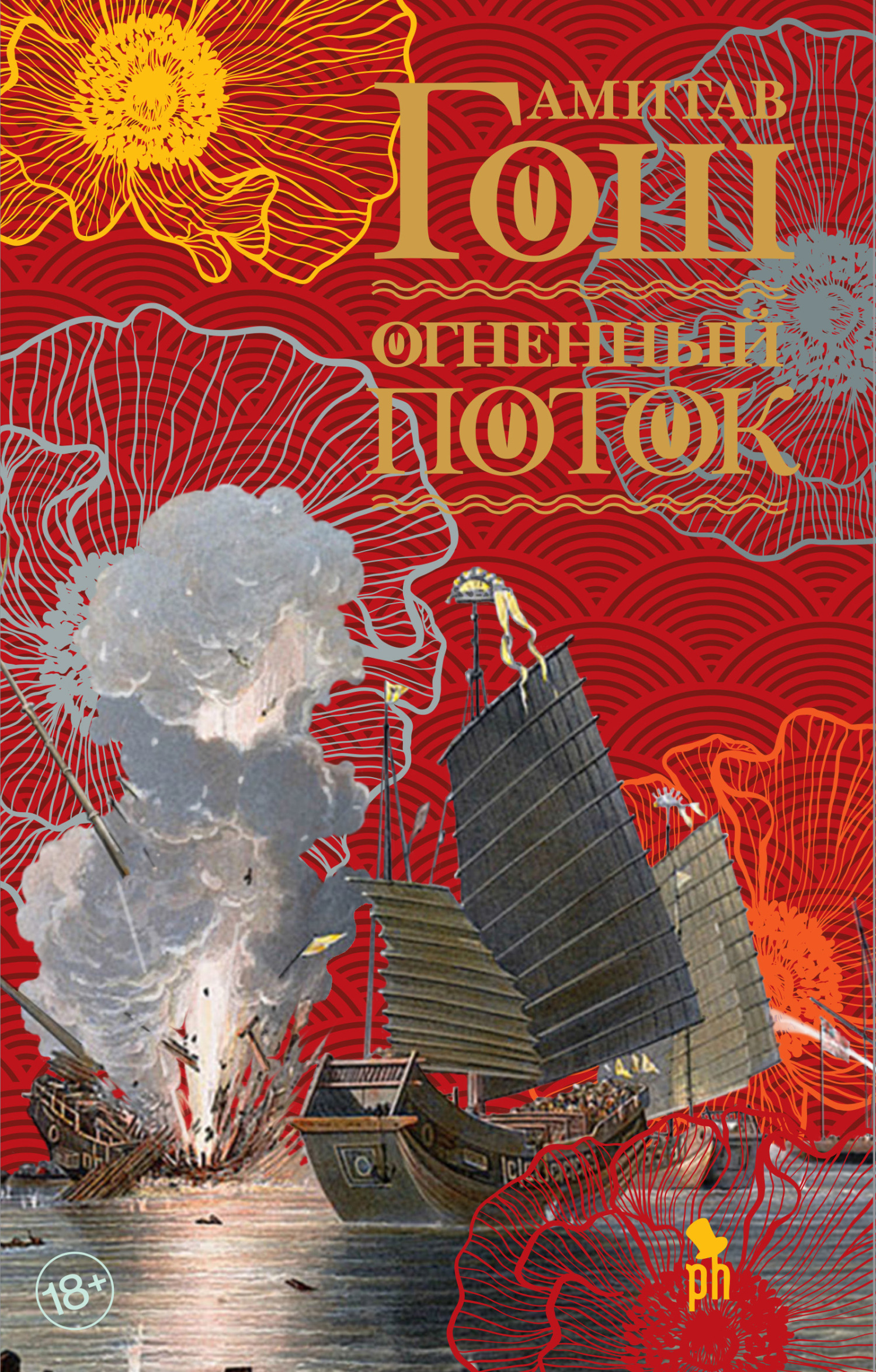которым последует изгнание навсегда.
Фирон возвысил голос:
— «В случае злонамеренного упрямства Иннеса, мы будем вынуждены снести его жилище, лишив крыши над головой. Никто из чужеземцев не смеет его приютить, если не желает неприятностей. Мы просим распространить это обращение среди ваших коммерсантов и поместить его в ваших газетах. Наша позиция — следствие указа губернатора, которым он пригрозил заковать в колодки всех купцов гильдии, если Иннес немедленно не покинет город. Времени мало. Если вы не предпримете меры по высылке Иннеса, губернатор непременно исполнит свою угрозу».
Фирон смолк. Повисло неловкое молчание, которое нарушил Иннес:
— В очередной раз повторю: я невиновен или, лучше сказать, виновен не больше всех здесь сидящих, включая замечательных господ из гильдии. С какой стати я один должен отдуваться за ситуацию, которая возникла по всеобщему молчаливому согласию? Я не желаю становиться козлом отпущения, а потому не покину город в угоду чьим-то прихотям. И Палата с этим ничего не сделает. Объясните-ка им, мистер Линдси.
Все взгляды обратились на председателя. Тот встал и заговорил:
— Будьте любезны, Фирон, переведите для наших добрых друзей и досточтимых коллег из гильдии Ко-Хон: в этом вопросе Палата и впрямь бессильна. Так вышло, что мистер Иннес не состоит в нашей организации, нынче он здесь по моему особому приглашению, но решения Палаты на него не распространяются. Он отвергает выдвинутые против него обвинения. Как британский гражданин Иннес обладает определенными правами, и мы не можем выдворить его из города вопреки его воле.
Бахрам про себя усмехнулся: доводы удивительно простые, однако несокрушимые. Воистину, только английский язык способен так ловко обратить ложь в неукоснительное соблюдение закона.
Оглядев комнату, Бахрам подметил, что речь председателя вызвала одобрение многих членов Совета, а вот на лицах гостей, выслушавших перевод, возникли испуг и растерянность. Купцы коротко посовещались, затем что-то прошептали толмачу, который, в свою очередь, переговорил с Фироном.
— Что они говорят?
— Сэр, меня просили передать следующее: из-за упрямой несговорчивости одного человека вся зарубежная торговля поставлена под удар, что может привести к чрезвычайно серьезным последствиям. Мы настойчиво взываем к вашему благородству и здравомыслию: заставьте Иннеса нынче же покинуть Кантон. Мы с вами знаем друг друга много лет, вы вели дела не только с нами, но с нашими отцами и дедами. Окажись мы в колодках, наши репутации будут безвозвратно погублены. Разве сможем мы, запятнанные, торговать с соотечественниками и чужеземными купцами? Во имя нашей давней дружбы, задумайтесь…
Тут речь переводчика прервал Иннес, который вскочил на ноги, громыхнув стулом.
— Все, с меня хватит! — гаркнул он. — Я не позволю сброду желтопузых нехристей обливать меня грязью! Они тычут в меня пальцами, но, Бог свидетель, им нет равных в греховности и распутстве. При всяком удобном случае они вырывают кусок из нашего рта, да и сейчас мигом нас подоили бы, подвернись такая возможность. Я пальцем не шевельну, чтоб избавить их от колодок! Это станет репетицией их загробной жизни!
Сам тон его выступления был так выразителен, что перевода не требовалось: купцы поняли презрительную непокорность оратора, не прибегая к услугам толмача.
Один за другим они встали в знак окончания встречи, и только Хоуква замешкался — преклонный возраст не позволил ему подняться столь же резко. Компаньоны поддержали его под руки, он окинул взглядом чужеземных коммерсантов. На лице его читались недоумение и растерянность, в глазах застыл вопрос: как такое вообще могло произойти?
Непонимание старика было столь искренним, что попритих даже Иннес. Чужеземцы молча смотрели вслед делегации.
Едва китайцы скрылись за дверью, как Иннес обрушился на коллег:
— Видели б вы себя! Сидите тут с постными рожами, но вся комната провоняла вашим лицемерием! Вы, новоявленные содомиты, смеете считать меня грешником? Нет такого греха, который ваша братия не совершила, нет такого завета, который она не нарушила! В глазах Господа всякое деяние ваше постыдно: чревоугодие, прелюбодеяние, содомия, воровство — чего еще не хватает? Одного взгляда на вас достанет, чтобы понять, зачем Господь повелел мне привести сюда лодки — дабы ускорить разрушение сего города греха! Что ж, я только рад этому поспособствовать. И если мое пребывание здесь хоть чуть-чуть приблизит час воздаяния, мой долг — не трогаться с места.
Помолчав, он оглядел присутствующих и сплюнул себе под ноги.
— Все вы прекрасно знаете, что я честный человек и, по сравнению с вами, сраными аристократишками, просто агнец божий. Единственная причина, по которой я мог бы покинуть Кантон, состоит в том, что никто из вас не достоин общества Джеймса Иннеса.
12 декабря.
Просто не верится, милейшая Пагли, что письмо это столько дней пролежало на моем столе. Но так оно и есть, ибо я не смог найти лодку, которая отвезла бы его на Гонконг. Благодаря мистеру Иннесу, все еще не покинувшему Кантон, движение на реке замерло полностью.
Но что удивительно, моя душенька, для меня эти дни полнились небывалым счастьем, и я бы отнюдь не возражал, если б здешняя деловая жизнь застопорилась навеки! Еще никогда не получал я такого наслаждения от живописи, как нынче. Джаква позирует мне во всякую свободную минуту, и я, признаюсь, намеренно не спешу в работе, ибо общение с ним не только приятно, но чрезвычайно познавательно. Знаешь, он ничуть не в претензии, что я пишу его с обнаженным торсом. И даже настолько любезен, что помогает мне советами, ибо вместе с другими юными подмастерьями серьезно изучал анатомию человека. На этом настоял Ламква, который часто наведывается в больницу доктора Паркера и рисует пациентов, перенесших операции. Рисунки эти совершенно необычные, ничего подобного я в жизни не видел. На них изображены страдальцы, лишившиеся конечностей или обезображенные ужасной болезнью. Как ни странно, рисунки, безжалостно подробные, не вызывают отталкивающего впечатления смакования уродства. Я бы, конечно, тотчас грохнулся в обморок, если б вживую взглянул на этакие страшные изъяны (ты же знаешь, я немного брезглив). Но рисунки Ламквы полны сочувствия к несчастным, и мне кажется, что они — своего рода снадобье для тех, кто на них представлен. Он так их подает, словно увечья и уродства не исключение, но правило самой жизни. Подобный взгляд на человеческое тело нельзя обрести в морге, где препарируют трупы, ибо живая плоть совсем не то, что мертвая.
Джаква кое-что перенял от сего безбоязненного, но чуткого подхода к человеческому телу, и в его замечаниях порою слышится укор, хоть он посмеивается: мол, я изображаю плоть, как тигр, для которого она — пища. Это заставило меня переосмыслить мою работу в стиле дель Сарто, и