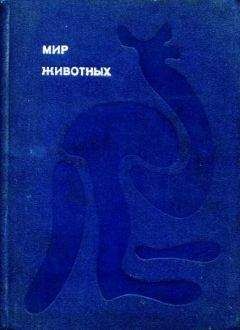Куда девался сон? Ведь я, кажется, уже засыпал!
В этот свой приезд тетушка Уцупэр привезла к нам мою двоюродную сестру. Иногда вместе с тетушкой приезжает ее муж, мой дядя, Прекуп Урбан Уцупэр. Это высокий мужчина, широкий в плечах, а сам тонкий, как угорь, острый, как лезвие; глаза у него черные, глубоко посаженные, так и полыхают огнем из-под густых, пышных бровей. Лицо у дяди очень темное, как чугун. Он сажает меня на колени. Качает. Дядя любит играть со мной. Сердце его истосковалось по детям, особенно по мальчикам. Их у него было двое: Гуцэ, умерший в прошлом году от сибирской язвы – он был чуть постарше моего брата Иона, – и Пантилие, в том же году погибший на военной службе в Турну. Тело его дядюшка Уцупэр в закрытом гробу перевез на телеге в родное село и похоронил рядом с Гуцэ. Славный паренек был мой двоюродный брат Пантилие!.. На верхней губе у него уже пробивались усики, и когда он смеялся – а смеялся он без конца, – то в улыбке открывались два ряда белоснежных зубов. Под мышкой он всегда носил короткую дубинку – обороняться от собак и от парней, если бы те осмелились, хотя бы в шутку, приставать к его девушкам.
– Да сколько же у тебя девушек, Пантилие? – как-то спросила мама.
– Ох, много, тетя Марие, – коли нет бородавок на носу, та, значит, и моя…
И заливался смехом. Смеялись и мы. Ни у одной из знакомых нам девок бородавок на носу не было. Выходило, что все девушки села – девушки моего двоюродного брата. Всё любил Пантилие – девушек, работу, жизнь. В голове у него сами собой складывались песни. Он звал музыкантов, учил их этим песням и заставлял исполнять их для себя, когда бывал весел, или для людей, чтобы шла о нем добрая молва. И слава о его песенках докатилась до города, прямо до городской префектуры. Пантилие пел, а скрипачи подхватывали:
С толстой шеей богатей,
Оторвись от жирных щей.
Скоро быть тебе в петле
И болтаться на ветле.
Там ветрами будешь бит,
А в земле – землею сыт!
Услышали те песни приказчики, донесли помещику, что Пантилие подбивает народ бунтовать. Требует его помещик к себе в имение. Пришел Пантилие. Дубинка, как всегда, под мышкой торчит.
– Стало быть, вот ты какой, Уцупэров сын, думаешь людей против господ взбунтовать?
– Это я-то, ваша милость? Да как же можно?
– Говорят, песенки сочиняешь…
– Бывает, ваша милость, и сам пою, когда есть охота…
– И что поешь?
– Да что в голову придет, хозяин.
– Может, и мне споешь?
– Спою, коли не рассердитесь.
Сто пятнадцать девушек и жен я любил,
Но на сердце холод, и душой я остыл…
– Нет, не про это. Про другое…
– Из тех, что позабористей? Не могу, барин. А ну как барыня поблизости окажется да услышит. Опять же озорные песенки только на вечеринках поют. А нынче какая уж вечеринка…
Понял помещик, что его дурачат, осердился. И отвезли моего двоюродного брата с жандармом в город. Разные важные шишки трясли его там так и эдак, но ничего не смогли вытрясти. И отпустили на все четыре стороны, порешив, что перед ними блаженный, а может, и полоумный. Уж как-нибудь мир не перевернется от его прибауток… Подоспело моему брату в армию идти. Отправился он служить в Турну – в пехоту. И определили его денщиком к одному капитану, Жиреску по фамилии, из тех бояр Жиреску, чьи имения раскинулись в междуречье Кэлмэцуя и Олта, что в Крынжени. Была у этого капитана жена – бой-баба и шлюха; после ее побоев не один уж капитанов денщик глухим или калекой на всю жизнь остался. На Пантилие руку она поднять не посмела: побоев он не потерпел бы и от мужчины, не то что от женщины, будь она хоть помещица и капитанова жена. Как-то раз попробовала капитанша влепить ему пощечину. А он не оробел – возьми да и опрокинь ее на спину… Понравилось это госпоже, во вкус вошла… Застукал их как-то капитан и застрелил Пантилие. А в рапорте потом отписали, что солдат Уцупэр Пантилие расхаживал с заряженным оружием и по оплошности выстрелил себе в грудь. Но всему городу известно, как было на самом дело. Капитана перевели в другой полк, тем и отделался. А у моего дяди Уцупэра не осталось ни одного сына.
– Хочешь стать моим сыном, Дарие?
– Нет, дядюшка…
У дяди на глаза навертываются слезы. Он роется в кошельке, достает монетку в десять банов и дарит ее мне.
– Иди купи себе рожков[6].
Я вихрем срываюсь с места. Рожки продаются в корчме Томы Окы, корчмой раньше владел мамин брат, дядя Лисандру. Продает рожки старшая дочь Томы Окы, Джена. Я тут же принимаюсь их грызть. Они сладкие. А кожурки твердые, коричневого цвета. Я выплевываю их. По дороге попадается мне сестра Елизабета.
– Братик, дай и мне погрызть.
Я даю ей несколько стручков. Она тотчас бежит к ребятишкам, которые устроили кучу малу в пыли на дороге.
– А мне братик рожков у Окы купил, рожков у Окы купил…
Ребятишки набрасываются на нее. И вырывают рожки.
Сестренка возвращается ко мне вся в слезах.
– Дай еще, братик. У меня мальчишки отняли…
У трактирщика Томы Окы три дочери: Джена, которая после обеда заменяет за прилавком отца, пока он с женой спит во внутренней комнате с опущенными шторами, чтобы свет с улицы не тревожил их сон, Фифа и Бобоака. Бобоака – маленького роста, толстая, пухлая, белокурая. Будь она дочь бедняка, небось уже бегала бы в хору. Но ее там не бывает. Не ходят в хору и Джена с Фифой. Фасон держат. Разгуливают в туфлях, платков не носят. Не стесняются расхаживать по улице простоволосые, напомаженные и в узких-преузких платьях, будто стреноженные, совсем как госпожа Полина, жена моего двоюродного брата Никулае Димозела, что работает на почте. Кроме дочерей, у Томы Окы есть еще сынишка Митикэ. Родители наряжают его как кукленка: на нем короткие штанишки, берет и башмачки. Вскарабкавшись на забор, Митикэ смотрит, как мы играем в лошадки. Ему хотелось бы спуститься вниз, открыть калитку и пошалить вместе с нами. Глазенки у него так и блестят. От зависти слюнки текут. А мы поддразниваем:
– Иди играть с нами, Митикэ. Будешь лошадкой…
– Не пойду, еще запачкаюсь…
– Брось, Митикэ, иди к нам…
– Не пойду. Я с вами не вожусь. Я ведь… Мой отец корчмарь…
– Ну и что такого? Все равно из мамкиного пуза родился…
Митикэ начинает хныкать:
– Тя-а-ать! Меня мальчишки дразнят…
Появляется его папаша, швыряет в нас камнями, берет свое сокровище за ручку, уводит в лавку, усаживает на колени, утешает, сует для успокоения баранку.
– Говорил я тебе, Митикэ, не подходи к этим голодранцам. Ты у меня пойдешь в школу, выучишься, станешь важным господином, даже префектом.
Митикэ снова вскарабкивается на забор. И кричит нам сверху:
– Нечего мне с вами играть. Я, как вырасту, префектом буду… – Из носа у него течет. Он вытирает нос рукавом.
По воскресеньям перед их корчмой устраивается хора. Дочери Томы – две высокие, одна коротышка – близко не подходят, смотрят издали. Ждут женихов из города. Но женихов нет как нет. А они все ждут. Моя сестра Евангелина говорит, что они из-за своей спеси так в девках и состарятся.
Люди в селе еще помнят, как Тома Окы сам ходил босой. Жена его и дочери тоже ходили босиком и работали на помещика не разгибая спины. Потом Тома нанялся приказчиком к грекам. Обжуливал покупателей. Обвешивал, работая на больших товарных весах и на станционных складах. Откладывал денежку к денежке. Когда умер мамин брат Лисандру, кошелек Томы был уже туго набит. Взял он ссуду в городском банке. Купил дом умершего, его патент. Начал дело с мелочной торговли. Открыл и корчму. Давал деньги в рост. Процент невелик – один пол[7] за сто лей в месяц. Многие на это клюнули. И впрямь, если взятую в долг сотню уплачивать в месячный срок, то это вроде и не слишком накладно. Но кому удавалось погасить весь долг за один месяц?.. Иногда он висит на шее целый год и даже несколько лет, а уж тогда процентам нет конца… Тома Окы довольствуется одной выплатой процентов, не спешит разорять должника. За сотню одолженных лей он спустя двенадцать месяцев получает двенадцать пол – двести сорок лей чистой прибыли. Сперва сам оделся по-городскому. Потом одел жену и детей. Джену сватали в первый раз уже давно, когда об увядании еще и речи не было. Сватал ее Лаке, старший сын Иордаке Димана, что живет в начале нашей улицы, возле шоссе. У Диманов – их двое братьев – много земли, сильных молдовских волов и дома с верандами, почти как у помещика. Есть и молочные коровы, множество овец и ульев с пчелами. Позарился Лаке на имущество Окы-корчмаря.
– Не отдам я дочь за твоего парня, – ответил Окы Иордаке Диману. – Выдам за городского, чтобы не гнула в зной спину на жатве. Я теперь хозяин корчмы. Высоко взлетел, вам не ровня. Никто из моих детей не будет больше в земле ковыряться. С этим покончено. Род Окы в гору пошел, в гору, в гору…