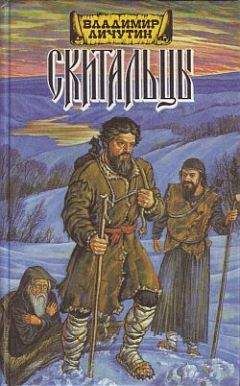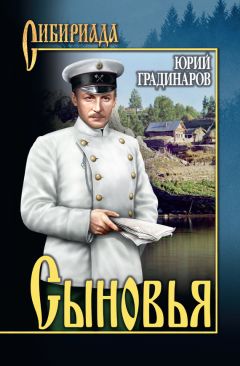– Сыми камень с души, – едва слышно сказал Старков. Может, мерзлые губы мешали говорить внятно. Донат не обернулся, расслышав слова, но плечи его, покрытые овчиною, дрогнули... – Вижу, как томит тебя грех.
– Отстань, старик... Больному и златая кровать не поможет.
– Сердце-то заклинило. А ты выскажись, сыне... Душа в тебе страждет. Ты ее не купори, сыне, а то на плохое может выйти.
Донат махал лопатою, снег вздымался ворохами, и серебристая пыль, вспыхивая на полуденном солнце, поднятая морозным засиверком, отлетала прочь, как чья-то мирная успокоенная душа. От слов ли легче становилось иль от крови, мчащейся по крепким молодым жилам, но только наледь на глазах растеплилась. А может, он и не слышал нравоучений: ведь что значат слова? Они как махорный дым из сосульки, что раскадил сейчас Король. Вору блаженно, ему счастливо: воткнул лопату поглубже в забой, оперся спиною, по-лисьи зажмурил глаза. Но вприщур все видит, все примечает. Боже, райская жизнь!
Вот махорный чад виден, он вьется кольцами и раздражает горло, туманит голову: не случайно говорят старики, что табак – из чрева блудницы. А слова не видны, это как бы ничто, истекающее в небеса из одной души, но они неисповедимым образом попадают в другую душу и исцеляют ее. Есть, знать, те невидимые пути, которые соединяют воедино все доброрадное человечество. Донат рылся в снегу, пахал, как лось, оставляя провал, а Старков суетился за спиною, подчищал кромки коридора и сыпал, сыпал словами.
– Есть еще время, сыне, еще не все пропало.
Слова были сказаны с такой жалостью, так серебристо отозвались они над снегами, что Донат вздрогнул и сердце осеклось. Показалось, отец за спиною.
– Отец, помоги, – взмолился Донат. – Убить хочу. Такая душа нынче, как сито. Словно гвоздем насквозь протыкана. И кровища хлещет.
Старков не удивился.
– За что сел-то? – спросил.
– Землемера хотел убить.
– И что, сробел?
– Рука не взнялась. Пнул в причинное место, собаку. Под самый корень.
– Заповедь-то забыл? – Старков пожевал губами: лицо было голубоватое, худое, постное. – Ишь вот, ты его в родову... А вдруг убил? Семя его убил, детишек убил?
– Да ну? – искренне удивился Донат: совсем еще молод парень, недавно из отроков выпал. И задирался бы вроде, гнев напускал, супил разлатые густые брови, но губы-то вовсе детские, припухлые, и едва русый пух закустился. Неожиданный исход разговора смутил Доната, и он услышал в себе дальнее торжество, так необходимое смятенному сердцу. – Это ведь как ладно, ежели бы засохла пырка. Его бы, по-людски-то, за это место и повесить мало. Пусть виснет, собака.
– А вот зря...
– И ничего не зря! – напустился, побагровел лицом. – Если не пролить крови, то как наступит отмщенье?
– Ах, сыне, сыне... Безумье и на мудрого бывает. На больного разве подымется рука, а тем паче нога? Вот как бы ты, предположим, валялся немощный середка дороги, и каждый нет бы помочь, протянуть руку помощи, пинал бы тебя, как паршивую собаку... Молчи, молчи. И твою правду зрю. Вижу, обидели. Но и ты, опять же, погляди на себя: кому худо? Сидишь нынче в камере, как тать. Скоро закуют в железы и погонят. А обидчик твой – в благости. И душа твоя, говоришь, как сито. Видишь, одни убытки, одни потравы.
– Врешь, беглый поп, врешь! Потому ты и от церквы прочь, что там насквозь тебя видят! Может, ты аблакат у сатаны? Нынче много аблакатов развелось.
– Сыне, сыне... Я же за чистоту помыслов.
– Дурнина ежели взросла под окнами, ее взглядом не убьешь. Ее надо из поля вон.
– Добротою спасемся. А ты восприми на один лишь миг, что месть на месть пошла, зло на зло! Земля тогда задымится. Не того ли и хощет сам антихрист. Он гордыни человечей хощет.
Уже долгий пласт жизни отмерил Донат: от люльки до мягкой щетинки усов. За девятнадцать-то лет чего только и не прокрутилось перед его глазами, и уже непосильную тягость испытали его плечи, и долгие горем мучилось сердце. Рос пока – и каждая обида разрешалась просто: обидчику в зубы, скрутил его в калач, намял боки, излил душу, чтобы назавтра и простить же, не копя желчи в груди. Но вспомни, Донат Калинович, всякую ли обиду в кулаки возьмешь? Всякую ли злость выместишь зуботычиной? А если старший покусился на тебя, к примеру, хошь Петра Чикин, Тайкин отец? А если и деревня от тебя отвернулась с радостью, не взяла на поруки? Может, и прав беглый поп? Вот уж как ловок старик, какими вкрадчивыми словами выстелил... Ах, душа, душа, ты же мягче воска: едва поднесли огоньку, подтеплили с краю – и потекло, разжижило сердце. И смутно пока, ой как далеко забрезжили мысли о прощении. Но Тайкино-то лицо перед очию, зареванное, вспухшее, заломленное назад.
– Нельзя так, врешь, попишко! – вспыхнул снова, залился краской. – Коли меня бы обидели, я бы еще ладно... Но коли друга сердешного. И-эх! – взмахнул рукою, вонзил лопату, пошел прочь, в камере бросился на койку.
Думал, долго думал, с головою уйдя в одеяло. И в какой-то миг осенило, и своя сердечная смута стала понятной. «Ведь не все же смирные. Кто-то норовистый, не захочет. Не все парны. Вот он на смирных-то и сядет, и поедет. Ведь на смирных и едут: ногами шею оплетут – и едут. Да и мало что едут, дак всяким худым словом обзываются. И тогда выходит, что ты вовсе скотина: всем хорош и всем гож. А ежели на меня сядут, выходит, и я вези? Э не-е. Не на того напали. Дай срок воли дождаться».
С одной стороны от Доната жил штафирка, коллежский регистратор, которому вышло наказанье в тридцать пять розог, и он с тайным трепетом поджидал его. Подходил к каждому и со слезами на глазах вопрошал: «Братцы, перенесу ли позор?» С другой стороны, ближе к дверям, занимал койку Петр Симагин. Симагин был молчалив и необычайно бледен; глаза туманные, смутные, как закопченное стекло; он постоянно дергал головою, старался подглядеть за плечо; наверное, виделось, как гонятся за ним и настигают. На работы его не слали, и Симагин, ежели не гулял по двору в одиночестве, заложив руки за спину, то сосредоточенно сидел на койке и углубленно думал. Никто не пробовал его задирать или выведать что о прошлой жизни, видно, туманные, словно бы пустые глаза, глядящие сквозь, отпугивали любого охочего до насмешки человека. Симагин, однако, ни словами, ни поведением своим не выказывал слабости духа: он, наверное, собрал себя воедино, чтобы более уже не расслабляться и все перенесть, что уготовано судьбой. И хотя за все время он ни разу ни с кем не завел разговора, но часто, без особой причины в деле иль беседе, каждый невольно оборачивался в ту сторону, где находился безмолвный преступник, словно бы искал поддержки и совета...
Донат и Симагин долго были в камере одни, пока прочие сожители вели повседневную работу, но и тут меж ними не затеялось ни слова, ни полслова. Явился Старков, подсел к парню, часто нагибался, пытался в куколе одеяла разглядеть Донатово лицо.
– Будущая кровь мучит, – осторожно начал беглый поп. – Она еще не пролилась, но уже отзывается. Не убий, сыне...
И тут Симагин впервые разверз уста: голос был сухой, скрипучий, слова отрывистые и ударяли, как розгой.
– Врешь же, отец! Разве на свете сотворено два Адама? Разве был Адам-господин и Адам-раб? Хоть чистого вьюношу не сбивай с пути живого! Не сбивай!
– Я не сбиваю, но я лечу. Я же духовник. Ты говоришь: все пошли от Адама. И верно, все дети Божии, все мы стадо Христово. Но как деревья в лесу разные, так и дети пошли разной дорогой. Бог велел ограничить богатство, но он не велел отнимать его совсем, чтобы богатые имели возможность помогать бедным.
– Его не будущая кровь мучит, – ткнул Симагин перстом в сторону Доната. – Его мучит непролитая кровь, которой надлежало пролиться. Но вот прольется кровь, и какой же цветок вырастет на ней? Вырастет дерево счастья. Доколе же терпеть, доколе! – неожиданно вскричал Симагин и вскочил, заметался по камере.
Только сейчас понималось, как мучит его неволя, как жаль ему несбывшихся надежд. Теперь осталось терпеть лишь. А сколько терпеть и готов ли он? Старков с жалостью смотрел на Симагина, наверное предвидя все его будущие душевные страдания. И если телесные муки еще можно перенесть неукротимому человеку, то сердечные – нестерпимы, коли нет смирения.
– Ежели без смирения, ежели кровь-то пролита, и неуж вы думаете всерьез, что она не отзовется? – с жалостью посмотрел Старков.
Донат лежал в одеяле, вроде бы невидимый, но словесный бой шел из-за него. Наверное, каждый хотел сейчас поднять парня и спросить: а ты-то как мыслишь? Но не поднимали, не взывали к арестанту, ибо каждый не мог до конца сказать: «Я прав!»
– И что же сулишь ты? – остановился Симагин и с неожиданной ненавистью взглянул на беглого попа. – Ты вот против нынешней церкви, а значит, и против властей, против царя. Ибо царь горою за антихристову церковь. Как-то у тебя странно, а? Значит, кого-то надо заключить в монастырь, сослать в Сибирь, кровь пролить. Как же без насилия обойдешься, старик? Как же без крови?