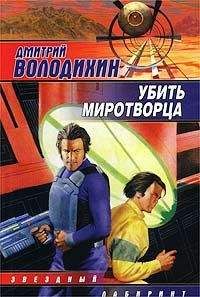5 августа 1945 года
За решеткой виднелся угол какой-то улицы и уже изрядно оборванный, раздуваемый ветром транспарант «No fraternization with Germans»[198]. Угол был бойким: здесь, видимо, сходились-расходились какие-то дороги, и постоянно стояли группки немецких девушек и детей. Это близлежащие деревни выставляли свои передовые посты, которые рассказывали проходящим немецким солдатам, где можно остановиться, переночевать, а главное, где стоят американские патрули. Как Стази поняла, это была целая система дозорных, передававшая солдат, как по беспроволочному телеграфу, по всей оккупированной территории. Солдаты шли группками и поодиночке, с котомками, мешками, небритые, с забинтованными головами, часто опирающиеся на руки товарищей. И Стази, сидевшая в странном своем плену уже несколько недель, невольно вспоминала, как шесть лет назад в какой-то иной жизни она стояла с мамой у Промки на Кировском и смотрела на Красную армию, возвращавшуюся после, как писали во всех газетах, «героической победы над врагом». Солдаты ехали на танках и в грузовиках и печально смотрели на жителей. Те тоже стояли молча и в большинстве своем плакали. Мама тоже плакала, а Стази испытывала только унизительное ощущение обмана этой липовой победой с такими огромными жертвами.
– Не надо злиться, Стасенька, – вдруг прошептала тогда мама. – Ты поплачь, и это будет твоя солидарность с ними, обманутыми и невернувшимися.
Но заплакать Стази тогда не смогла.
Она не плакала и сейчас, хотя положение ее было непонятное и оттого еще более тяжелое. Тогда ее, плохо понимавшую, что происходит, но вдруг начавшую яростно отбиваться, даже кусаться, запихнули в кабину машины, не грузовика, как она ожидала. Тут же влез офицер НКВД и выгнал шофера. Стази сжалась в комок на заднем сиденье.
– Хватит дурить-то, – произнес голос, в котором Стази послышалось что-то знакомое, но давно забытое, словно голос этот звучал не то что из прошлой жизни, а вообще из другого мира.
– Зачем вы его убили?! – вдруг выкрикнула она, так и не открывая глаз, с мучительной яркостью увидев убиваемого, ничего не понимающего, брошенного ею пса.
– Кого? – удивился голос.
– Капитана Фракасса!
– Совсем рехнулась. Ты что, Славка? – И от прозвучавшего имени, которым ее давно никто не называл, она открыла заплывшие глаза. Офицер улыбнулся и снял фуражку. – Ну слава Богу. – Но Стази смотрела на это вполне мужественное и даже улыбающееся лицо и не могла понять. – Вот ведь что война делает, – неизвестно про что, произнес энкавэдэшник и присвистнул. И только по этому мальчишескому свисту Стази скорее догадалась, чем действительно узнала, Колечку Хайданова.
– Тебя что, специально за мной прислали? – оскалилась она и инстинктивно вжалась в сиденье.
– Делать нам больше нечего, – рассмеялся он, а Стази тут же запоздало подумала, что выдала себя. – Казаки – народ серьезный, сама по истории знаешь, союзничкам без нас не справиться. – Стази посмотрела на полковничьи погоны, потом скользнула взглядом по кителю. Ни одной нашивки за ранения. – Да черт с ними, как хорошо, что я тут оказался, хотя узнать тебя… ммм… трудновато. Я понимаю, тебе, видно, досталось. На, глотни, приди в себя, да поедем ко мне. Времени у меня немного, а хлопот с тобой будет изрядно.
– Какие со мной хлопоты? – Стази вдруг подняла голову, и в ее отекшем лице со спутанными волосами на миг сверкнула прежняя Стази Новинская, недоступная, неподкупная, равнодушная. – Расстреляйте лучше сразу.
– Ну вот, опять за свое. Сегодня отдохнешь, поешь нормально, вечер посидим, вспомним прошлое, а завтра проверочку пройдешь быстро, у меня ребята работать умеют, послезавтра врача пригласим, стимульнем тебя, и на следующей неделе поедешь в Ленинград свободная и чистенькая. Как раз к началу семестра успеешь.
Стази слушала, плохо понимая, но все же с трудом заставила себя произнести:
– Ты дурак, Хайданов. Я никуда не поеду и от ребенка избавляться не буду.
– Так у тебя любовь, что ли? Или ты не из лагеря? Ну, дела… Ладно, все равно до завтра ничего не решим. Васильев, на Рундштрассе, ко мне! – крикнул он в окно, и околачивавшийся неподалеку сержант лихо прыгнул за руль.
В комнате было прохладно и тихо, Стази с наслаждением, которого от себя даже не ожидала, вымылась и надела чистое офицерское исподнее, принесенное Николаем. И ребенок тоже задвигался будто свободнее и легче. Вечером пришел Хайданов с коньяком и подносом отборной еды.
– Ну рассказывай, Славушка, как дошла ты до жизни такой. – Он сел у окна, стараясь не смотреть на ее живот.
– А как все. – Стази встала и подошла чуть не вплотную к Николаю – Как все, которых вы решили считать предателями.
– А, плен. Неужели сразу под Лугой? Я потом пытался тебя там искать…
– Ничего, я облегчу работу тебе и твоим ребятам. Мой немецкий, школа в Вюрцбурге, роман с немецким генералом, работа переводчицей по лагерям, потом с письмами в Берлине, потом Берлинский университет, эвакуация, бомбежка, плутанья по горам, этот лагерь. Достаточно?
– Ты… по любви с ним спала? Он старик?
– Молодой и красивый. Настоящий офицер.
– А, аристократ, значит! Неужто твоя дворянская дурь из тебя не выбита?
– Выбивайте, умеете.
– И выблядок от него? А он, конечно, благородно застрелился, как мы на Одер вышли?
– Нет. Но это уже на ваше дело. А теперь уйди, я спать хочу. Если можешь дать мне спокойно по-человечески поспать в последний раз, то дай. А завтра… Впрочем, теперь все равно.
И Стази легла, отвернувшись к стене.
Тихо щелкнул замок. С третьего этажа ей не спуститься. Мысли ее были спокойны и отстраненны, словно думала она не о себе. Расстрелять ее, беременную, вряд ли расстреляют, но в лагерь, конечно, кинут, если она сможет добраться в этих столыпинских вагонах до Союза. Но, даже если она сохранит ребенка и родит, то никогда не сможет рассказать ему правду об его отце. Может быть, тогда лучше все-таки умереть сейчас им обоим? Выпрыгнуть из окна? Разбить голову о стенку? Но Стази в глубине души понимала, что не в силах сделать ни того ни другого. И Федор не разрешил бы ей. Хорошо, если он убит, повешен, а если взят в плен? НКВД пытает похлеще гестапо, и при мысли об этом все тело Стази пронзила тягучая боль, будто пытали ее саму. Она поднялась и долго ходила по комнате, пытаясь унять боль, и только под утро опустилась у прохладной стены на пол и забылась.
Утром пришел другой сержант, принес ей шинель, ботинки и перевел на первый этаж, где окна были уже с решетками. Еду, правда, принесли, и хорошую, даже сливки. Стази ела жадно, почти давясь, и раздвоенное ее сознание видело себя со стороны: погрузневшую, чавкающую, безобразно одетую, а с другой она чувствовала себя все той же Стази, жадно и преданно смотрящей в черничные глаза и знающей, что нет города лучше, чем Ленинград, и нет страны любимей, чем Россия. «Хорошо бы сойти с ума, – пришла ей в голову спасительная мысль. – И, может быть, это уже происходит… И все же я должна сделать всё, чтобы ребенок родился и узнал. И я пойду ради этого на всё».
Хайданов пришел снова на закате, но теперь без коньяка и еды. Он был бледен и встал у дверей, сцепив руки за спиной. Стази спокойно осталась сидеть, белея в сумерках рубахой, туго натянутой на животе.
– Сука. Ты работала на РОА.
– Я никогда не работала ни на РОА, ни на КОНР. Только на ОКВ, на немцев. И не понимаю, чем ты так возмущен? Я никогда не любила Советы и никогда не хотела поражения России. Только большевикам. И это был не худший способ.
– Врешь. Ты была в Праге на этом идиотском сборище власовцев.
– Была. Меня пригласил Штрикфельд. Я украшала банкет, это не работа, я была студенткой, каких, русских, там были десятки.
– Ты в дерьме с ног до головы, понимаешь? Я тебя могу расстрелять сейчас, здесь, сам!
– Я уже сказала: стреляй.
– От кого ребенок, отвечай немедленно!
– Я вижу, тебя больше всего интересует это. Но именно этого я тебе не скажу. Сделай так, чтобы я родила здесь спокойно, и я расскажу тебе очень многое, я много знаю, это будет важно…
Неожиданно Хайданов бросился к ней и, больно отводя плечи назад, стал целовать, ища ускользающий рот.
– Ненавижу… ненавижу… – хрипел он, но тело его говорило иное. Стази стояла, вцепившись в спинку кресла, и терпела, сжав зубы. Наконец он оторвался от нее, губы его дрожали. – Скажи, скажи, кто он? Ты любила его, любила?!
– Люблю.
– Скажи, и я все сделаю, чтобы тебя вытащить!
– Нет.
«Господи! – мелькнуло у нее. – Почему я так упорствую? Что это изменит? Но я не могу, не могу отдать им даже его имя. А если он жив? Они убьют его мною…»
– Скажи, тварь, или я позову сейчас сюда караул, и они будут драть тебя у меня на глазах, поняла?
– Как огрубила тебя война, Колечка. Четыре года назад ты читал мне Цингрефа, а теперь насилуешь.
– Хорошо же, – вдруг успокоился он. – Я найду на тебя управу. – И вышел, не хлопнув дверью.