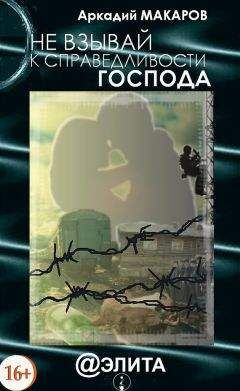Боли и отчаянью молодой учительницы начальных классов сельской школы не было границ. Что делать? Куда прислониться? С тех краёв, где дом родительский, люди бегут. Говорят – немец жмёт, бомбы щвыряет. Почта туда давно уже ходить перестала – не пожалуешься, и прощенья у родителей не выспросишь. Одна на белом свете, как соринка в глазу…
Доктор ничего сделать не мог, и лежала она так, пустая и горькая, в слезах и мокроте на узкой железной кровати в уголочке больничной палаты, зажмурившись от пугающего мира.
Ей казалось, что вся её внутренность лежит здесь, на виду у всех. И кровоточит. И кровоточит…
В больницу за ней приехала тётка Марья с узелком чистого белья, закутанной в шаль кастрюлькой куриного бульона и парой сваренных вкрутую яиц.
Села подле неё, подержала за руку, погладила, как маленькую по голове и стала отпаивать её из большой алюминиевой кружки, ещё не остывшим, крепким и душистым бульоном: «Пей, голубь мой, пей! Силы тебе ещё пригодятся. И Павлуша твой возвернётся живой и здоровый. Не убивайся загодя. Чего в жизни не бывает? Яичко вот съешь!»
Уговоры и ласковый, заботливый голос тётки Марьи подняли Павлину Сергеевну с опостылевшей, пропахшей хлоркой и креозотом постели, и маленькое незадачливое существо, прислонившись головой к плечу своей хозяйки, закусив губу, тихо постанывало, возвращаясь к жизни.
На улице их ждала терпеливая колхозная лошадь, запряженная в широкую дощатую телегу.
В телеге золотилась на закатном солнце большая охапка соломы, на которую заботливо и усадила свою постоялицу добрая тётка Марья. Накрыв своей страдалице ноги старым со свалявшейся шерстью полушубком, она легонько, для порядка стеганула хворостиной зазевавшуюся лошадь, круто по-мужски развернула телегу, и они поехали домой, молчаливо думая каждая о своём.
Молодая учительница под однообразное, ненадоедливое покачивание громоздкой телеги успокоилась настолько, что даже успела незаметно уснуть.
Открыв глаза, она уже не чувствовала себя обречённой и брошенной.
Вот уже холодным широким иссиня-чёрным рукавом выпростался из-за поворота Дон. Водная гладь его, готовясь к неминуемым первым морозам, была пустынной и отрешённой от всего сущего, что творилось в это время на русской земле. Война и людские беды были безразличны равнодушной реке, видевшей за свои тысячелетия столько слёз, что их вполне хватило бы, чтобы в них утопить всех обидчиков, на всей русской земле…
Ещё не успели, как следует спуститься сумерки, переходя в длинную осеннюю ночь, как женщины – молодая и старая, были уже дома.
Тётка Марья, распрягла лошадь, гнедую, со спутанной гривой понурую кобылу и оставила её до утра в своём дворе.
Нетопленная с утра печь простыла, и в избе стояли холодные потёмки.
Хозяйка, не раздеваясь, зажгла керосиновую лампу под стеклянным щербатым пузырём, опустила её перед собой на пол и, стоя на коленях, стала возиться с топкой.
Вскоре, заранее приготовленные дрова занялись нетерпеливым переменчивым огнём, и по дому забегали, заметались испуганные тени. А, вроде, это и не тени вовсе, а чёрные крылатые существа, слетевшие сюда из другого мира, оттуда, откуда погромыхивая железом, разрывая сердце, накатывается гроза.
И эти мятущиеся тени вселяли ещё большую тревогу и смятение в горемычные души двух одиноких женщин.
– Ну, что, дочка, раздевайся, не в гости пришла! – оглядываясь на стоящую в нерешительности девушку, сказала нарочито строго хозяйка. – В ногах правды нет. Сейчас чай пить будем. Я тебе тут пирог с яблоками испекла, и медку баночку соседи принесли, как узнали, что ты в больнице с аппендицитом лежишь. Ты только меня, старую, не подводи. Правда, она кому нужна? Никому! А тебе ещё здесь жить да жить надо.
Вот так и рассудила умудрённая житейским опытом деревенская женщина положение сельской учительницы, которая в деревне, конечно, всегда на языке.
Ещё долго в стылой ночной темноте порывистый ветер раздувал горящий уголёк окна, высвечивая два женских силуэта, беседующих за столом на своём женском, непонятном ветру языке, доверительном и сокровенном.
Больше на рытьё окопов хрупкую учительницу уже не посылали, и она, втянувшись в ежедневную работу, всё своё время отдавала испуганным войной детям, занимаясь с ними и после уроков, до самого вечера, пока их, будущую безотцовщину, не забирали домой измученные за день и обычно всегда простуженные бабы – несгибаемые солдаты тыла.
А Воронеж уже бомбили немцы, и по ночам в морозном воздухе, в красных зловещих сполохах были видны с той стороны белые, беспокойно шарящие по небу лучи прожекторов.
Стояло страшное время. И детское сердце сжималось в тоске.
Что было потом? Да мало ли, что было потом! Потом было всякое.
Долго, долго ещё будут бередить душу эти дни, отражаясь в глазах тех мальчиков чёрной, несмываемой тенью.
Может быть, отсвет прожекторов из того мира, а может, генетическая память народа отразилась однажды в случайных строчках Кирилл Назарова, когда его раздумья ложились на чистый лист бумаги:
«Туман молчаливый клубится, деревья в тумане до пят.
Крикливые чёрные птицы по низкому небу летят.
Отстрел начинается, или – земля полыхает окрест?
Куда они вдруг заспешили? Кто гонит с насиженных мест?
Поля, перелески, лощины: отрада для русской души…
По заводи тихой морщины в сухие бегут камыши.
Во мраке дома ледяные, как страшного сна миражи…
Что птицы?! Ведь им не впервые над голою пашней кружить.
Но только ли душу излечит российская мглистая тишь?
Дыханье отравленной речки спалило прибрежный камыш.
Туман молчаливый клубится и небо заката в крови.
Огромные чёрные птицы покинули гнёзда свои.
Куда? До какого предела? В какие края понесло?…
Ведь нынче не время отстрела, а время спасенья пришло».
…Тихо в деревне. Тепло. Обвисшие плоды слив сквозь задремавшую листву звёздным соком наливаются. Кирилл сорвал один тяжёлый и холодный, как галька на отмели, кругляш. Слива была кислой – ещё не пришло время перебродить сладостью.
Полоска прощального света на горизонте бледнела и бледнела, пока стала совсем неразличимой на тёмном, с крохотной, как иголочный укол, звёздочкой.
Ночь как-то незаметно заполнила всё пространство.
«Наверное, права тётя Поля, утро вечера мудренее! Пойду-ка я спать! Назавтра что-нибудь придумаю!» – Кирилл поднялся, выбросил щелчком далеко в кусты тлеющую сигарету и направился к сараю.
В сарае было темно, тихо, густо пахло травяным настоем. Ещё с вечера он заметил на стенах развешенные веники чабреца, мяты, голубой полыни, кустики земляники с ягодой, веточки донника и ещё каких-то трав. Уже подвянувшие, они источали такой аромат, что у него сладко закружилась голова.
Едва дотянув до раскладушки, он сразу же провалился в пустоту. Густой, как этот медвяный запах, сон завернул его в свои пелены.
На новом месте Кириллу спалось, как младенцу, легко и без сновидений. Такое с ним случалось только в хорошем подпитии. Ни один лазутчик с фронта тревоги не мог достучаться до его дверей этой ночью. Глухо.
Гостя разбудила лёгкая прохлада утра. Ещё не открыв глаза, он услышал возле себя шорохи, царапанье, тихое постукивание, как будто кто-то пробовал забить в доску гвоздь, да всё никак не решался.
Кирилл повернул голову на эти странные звуки и увидел рядом деловито похаживающую пёструю курицу, важную и уверенную в своей безопасности.
Прогонять её он не стал и посмотрел на часы. Было половина седьмого, вставать в такую рань не хотелось, ехать в Тамбов – тоже, и он снова закрыл глаза в надежде проспать первый автобус: «Авось, доберусь вторым рейсом, а то и вовсе не поеду, деньги у меня есть, свободное время тоже, заплачу за постой и харчи Павлине Сергеевне и ещё на одну ночку останусь… Почему не сделать себе маленький праздник?»
Перед сараем стоял могучий осокорь с раскидистой кроной, огромный и широкий, – целый сад с птичьим щебетом и толкотнёй.
Там, в листве о чём-то, перебивая друг друга короткими резкими звуками, которые издаёт нож в ловких руках точильщика, ладились между собой воробьи. Один такой расторопный проскочил в распахнутую дверь, но, испугавшись, то ли вельможной пеструшки, то ли человека с улыбкой взглянувшего на него, на всём ходу развернулся и выскочил обратно на улицу.
Солнце, просунувшись сквозь ветвистую крону тополя, рассыпало по земляному полу сарайчика яркие шарики света и заигралось ими.
Лето.
Там, снаружи, свистело, ворочалось, кричало, жужжало и пело на все лады и ноты июньское утро.
«Нет, не поеду! Останусь денька на два!» – решил Назаров, потягиваясь от удовольствия быть свободным от работы, друзей, вина и женщин, от всего того, что пеленает по рукам и ногам любого взрослого человека.
Так и остался Кирилл Семёнович Назаров у старой учительницы Павлины Сергеевны, тёти Поли, на целую неделю, устроив себе каждодневные маленькие праздники.