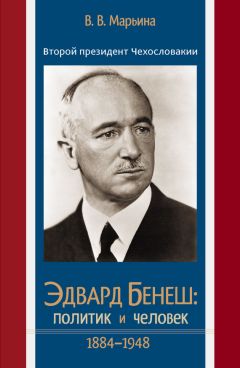Торжество устроили по этому поводу большое. При первой раздаче наград, которые Ян Борн, не пожалев времени на длинную дорогу, лично вручил отличившимся детям, весь его родной городок был поднят на ноги: маршировали «соколы» и пожарные, отставные военные и вооруженные граждане, девушки в белых платьях усыпали цветами улицы, дома украсили чешскими флагами, на площади перед трибуной, воздвигнутой специально с этой целью, собралось столько народу, что яблоку негде было упасть; в общем, торжественный акт очень напоминал те знаменитые патриотические демонстрации, в которых сам Борн в свое время столь самозабвенно участвовал. В перерывах между речами музыканты в шляпах, украшенных петушиными перьями, играли одну песенку за другой, раздавались возгласы: «Замечательно!», «Наздар!» и «Да здравствует единство!»; а во время выступления Борна было тихо, как в храме, и рыхлебовцы с вполне понятной почтительностью и умилением упивались произнесенной графским голосом речью своего прославленного земляка. «Рыхлебовские обзоры» с полным основанием писали, что «торжество, какого наш городок еще не видывал, проходило с большим энтузиазмом».
«Итак, милый Ян, — возвращаясь вечерним скорым поездом в Прагу, думал Борн, в ушах которого еще дребезжала медь рыхлебовского оркестра, — итак, милый Ян, все было очень удачно, ты, как говорится, достиг заслуженного успеха, но я не сказал бы: «Вот то, что надо», нет, не сказал бы. Когда-то в Париже ты наивно мечтал собственными руками воздвигнуть на Вацлавской площади Триумфальную арку или на собственные средства построить великолепный Национальный театр. Что осталось от твоих мечтаний? Награды десяти рыхлебовским примерным детям… Жалкий, право, жалкий итог… Тогда ты мечтал и о блестящем чешском салоне… Есть у тебя такой салон? Есть, но скажи, положа руку на сердце, что в нем специфически чешского? Не звучит ли в нем все чаще и чаще, все упорнее и упорнее немецкая речь? Пани Лаура Гелебрант, не стесняясь, говорит в чешском салоне по-немецки, как ей бог на душу положит, супруг Лауры поддерживает ее, его превосходительство Страна — тот и нашим и вашим, ему совершенно безразлично, на каком языке говорить, да и чешскому писателю пану Зейеру немецкий язык, по-видимому, ближе нашей простой чешской речи. Говоря честно и беспристрастно, удивительно ли, Ян, что твой салон онемечивается? Нет, ведь мы исполняем исключительно немецкую музыку, так что ж удивляться, если она незаметно проникает в умы наших гостей и определяет их образ мыслей?»
Помня свою неудачную попытку посоветовать Антонину Дворжаку, чтобы произведение, названное им «Трагической увертюрой» послужило вступлением к опере, вроде тех, что пишет Сметана, Борн долго колебался, пока отважился поделиться с обидчивым музыкантом своими огорчениями; но однажды под вечер, когда Дворжак был в особенно хорошем настроении, — он тогда заканчивал партитуру оперы «Упрямца», а министерство вероисповеданий и народного просвещения назначило ему стипендию в четыреста гульденов, — Борн набрался смелости и заговорил о том, какое грустное, мол, явление, что, занимаясь музыкой, они поют, только немецкие песни, дуэты Шуберта и Мендельсона.
Дворжак, фыркнув своим толстым носом, с какой-то строгой подозрительностью посмотрел на Борна широко расставленными глазами, казалось, он вот-вот взорвется, но все обошлось.
— Знаю, — ответил Дворжак. — Мне самому этот Мендельсон опротивел, да где взять чешские дуэты, раз их нет?
Тут Гана спросила, помнит ли маэстро, как, проверяя ее голос, он сказал, что через несколько месяцев, если она будет очень, очень прилежной, он разрешит ей петь «Шла Нанинка за капустой». Так вот, почему бы не петь «Шла Нанинка за капустой»? Ведь в чешской и моравской землях бытуют тысячи народных песенок; стоит лишь заинтересоваться ими и переложить их для рояля и двух голосов, и они засверкают во всей своей красе.
Слушая ее, Борн, испытывавший всегда непреодолимую робость перед могучей личностью музыканта, удивлялся, как тактично умеет Гана, не рассердив Дворжака, преподнести ему мысли мужа. «Попробуй я сказать ему это, он сразу бы ощетинился, заявил бы, что не вмешивается в мои дела с юфтью или «Императорскими фиалками», и мне нечего вмешиваться в его музыку».
— Попытаться можно, — сказал Дворжак. — Подберите хорошие тексты, а я посмотрю, что удастся с ними сделать.
И, повернувшись к роялю, ударил по клавишам своими мощными руками.
На следующий день Гана пошла к Напрстеку, взяла в его библиотеке сборник моравских народных песен и два вечера вместе с Борном выбирала самые красивые мелодии. Но Дворжак раздумал.
— Нет, этого я делать не стану, — сказал он. — Слова хорошие, но писать вторые голоса не буду. Если хотите, напишу к ним свою музыку.
И вскоре принес Борнам партитуру сначала трех, а затем еще двенадцати «Моравских дуэтов».
3
Публично, то есть в избранном обществе салона Борнов, «Моравские дуэты» Дворжака впервые торжественно прозвучали в конце ноября семьдесят шестого года. Именно тогда тетушка Индржиша Эльзассова открыла и заманила к Борнам редкий экземпляр женской эмансипации — посвятившую себя рисованию цветов художницу Женни Шермаулову[60] чей натюрморт с огромным букетом георгин за три года до того привлек всеобщее внимание на Всемирной выставке в Вене. Когда она впервые появилась в салоне Ганы, ей было лет пятьдесят, но благодаря золотистым волосам, мягкими волнами обрамлявшим чистое, задумчивое лицо художницы, она казалась моложе. В обществе Женни всегда бывала со своей старшей сестрой, с которой никогда не расставалась: ради нее она отказалась от личного счастья, так как большие голубые глаза сестры были от рождения незрячими.
— Она — мое зрение, — говорила слепая о сестре-художнице, и порой казалось, что она вправду зрячая, так часто упоминала она о красках, которых никогда не видела, о тени и свете, об отделенном от нее завесой тьмы волшебно-прекрасном мире, который познавала лишь осязанием.
Эти тихие, задумчивые существа, введенные к Гане, вызвали исполненное глубокого уважения внимание завсегдатаев салона, к которым в последнее время, как мы уже говорили, присоединился поэт Юлиус Зейер; это в его близоруких, прятавшихся за золотым пенсне глазах Мария, тогда еще Шенфельд, обнаружила какой-то мистический блеск; маленький, преувеличенно учтивый, с упругими ножками, которыми он изящно и галантно шаркал, без конца пересыпающий свою речь всяческими «пардон», «о, пожалуйста», «целую ручку», он скорее производил впечатление учителя танцев, чем мистика.
Незадолго до того Борн, несмотря на упорное сопротивление Ганы, вызванное неприязнью к духовенству, привел в ее салон известного всей Праге переводчика Шекспира, Данте и Ариосто — патера Доуху[61]. Это был сухопарый старец с чахоточным румянцем на худом лице, с тонкими, крепко сжатыми губами, чуть изогнутыми постоянной усмешкой. В одном из многочисленных карманов своего долгополого сюртука он носил веревочку с уймой нанизанных на нее разноцветных, замусоленных записочек — материал для словаря, вошедших в чешский язык иностранных выражений, который в течение многих лет он собирал и систематизировал.
Итак, все эти гости и такие завсегдатаи салона, как Смолики, Гелебранты, Войта Напрстек и многие, многие другие, собрались в эту достопамятную среду в благоухавшем «Императорскими фиалками» салоне Борнов, чтобы послушать новое произведение пока еще малоизвестного композитора. Гана и Борн уже давно пророчили, что оно будет приятным сюрпризом для всех любителей чешской музыки. Общество расположилось на стульях, полукругом расставленных перед открытым роялем, на пульте которого уже была приготовлена партитура «Дуэтов» с собственноручным посвящением композитора глубокоуважаемому пану Яну Борну и его обаятельной супруге. Все было готово, а Дворжак не показывался. Он свято обещал Гане явиться в ее «болтливый» концертный зал ровно в пять, но время приближалось к шести, а о нем все не было ни слуху ни духу; тщетное ожидание тормозило, сковывало беседу, и она текла вяло.
К шести пришел Страна со своей седовласой супругой и принес известие, которое еще больше отвлекло внимание и без того рассеянной, плохо настроенной компании: журналист Гафнер, хорошо известный большинству присутствующих, арестован вчера у себя на квартире и заключен в тюрьму. Его превосходительство Страка узнал из достоверных источников, что Гафнер председательствовал на каком-то запрещенном собрании социалистов и кто-то донес на него.
— Неужели это кого-нибудь удивляет? — откликнулся на это сообщение Гелебрант. — Я, наоборот, удивляюсь, что этого странного господина давным-давно не посадили за решетку.
Наконец-то в салон вошел без доклада запыхавшийся, раскрасневшийся от раннего ноябрьского мороза Дворжак, и в ответ на аплодисменты энергично, по-дирижерски поднял руки.