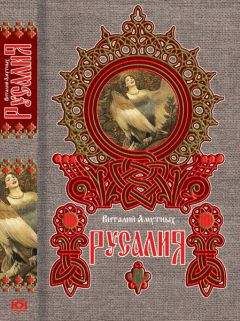— Чего ты тут, Малуша? — спросил Святослав, как бы со стороны наблюдая за происходящей внутри него борьбой, в которой желание приблизиться к этой разгоряченной плоти вело спор с отвращением, внушаемым этими же самыми пахучими телесами.
Женщина только учащеннее задышала, но ничего не ответила.
— Так чего тебе? — он сделал полшага, вероятно, будучи уверен, что сделал это для того, чтобы лучше расслышать ответ.
Дыхание сделалось громче, а запах резче.
— Так что?
Пальцы его руки сквозь ткань с силой вжались в наполненную молодым жиром кожаную сумку. Женщину затрясло, но сквозь сомкнутые зубы прорвалось только жалобное кряхтение. И не успел Святослав опомниться, как чужое ловкое тело облепило его со всех сторон и понесло по темным волнам едкого наслаждения…
Для того, чтобы в праздничный день показаться на людях Ольга больше не прибегала к тем несчетным ухищрениям, которые были ей обыкновенны в былые времена. Придут ключница Малуша с девушками, умоют, оденут, что оденут — то и ладно. Вообще со времени своего позорного странствия в Царьгород она очень задичала, постарела, разжирела, обрюзгла, в баню прислуге приходилось загонять княгиню едва ли не силой, большей же частью она сидела или лежала на лавках в своей светелке, непременно при этом что-нибудь жуя. И если бы не завсегда находящаяся при ней ключница, то и вовсе готова была с внешним миром не встречаться, во всяком случае с населяющими его людьми.
А о Малуше вообще отдельное слово, поскольку настоящее ее имя было Эсфирь, и была она кровной дочерью (младшенькой) хазарского мэлэха-малика Иосифа. А оказалась она в Киеве в Ольгином тереме оттого, что в родном дому с самых младенческих своих лет выказала себя невозможно блядливой. В те годы, когда и скороспелые еврейские девчушки ни о чем не любопытствуют, кроме самых невинных ребячьих игрушек, эта уже была будто помешана на одной только увлеченности. И как это Бог выдумал, и для чего, а только, как завидит малютка Эсфирь человека мужеского пола (такого ли, как она, ребенка или взрослого мужа), так с ней просто что-то неладное начинает твориться. Уж она и прижмется, и потрется, а ежели человек вдруг потеряется, вовремя не умея сообразить, может ли он осаживать наскоки царской дочери, — то разойдется, ничуть не хуже наторелой дворцовой беспутницы. Вопрос складывался очень непростой. Ни лекари, ни чудотворцы не помогали, ее уж и запирать пытались, да вовсе-то лишать малолетнюю царевну свободы тоже выходило как-то… не того… Но когда десятилетнюю вострушку поймали как-то в постели ее собственного брата Аарона (у которого к тому времени свое потомство приблизительно в тот же возраст входило), стало ясно, что медлить больше нельзя. Чтобы не лишать кровиночку встречающихся на этом свете царских удовольствий, а вместе с тем избавить царский дом от позора, просовещавшись полночи, малик Иосиф и жена его Шифра решили безрассудную дочурку отправить хотя бы на время пожить в какой-нибудь царский дом, обязанный Хазарии рядом повинностей. И поскольку самым зависимым, укрощенным, но вместе с тем и достаточно богатым среди обозримых царств в эти годы малику Иосифу виделась именно Русия, то туда и была переправлена Эсфирь в срочном порядке. Имя Эсфирь показалось обитателям Киева слишком уж тарабарским, но поскольку была она дочерью малика, ее и стали здесь называть Малика, Мала, а затем — и Малуша.
Но какой же прием в Киеве встретила ее похотливость? А сложилось все вот как. Молоденькой девочке, конечно, нелегко было разлучаться с привычным укладом родного дома, однако, она была уже не столь мала, чтобы не надеяться: жизнь вне удушающих домашних устоев рассечет путы с гибкого сильного тела, живущей в ней слепой, бессознательной, но вместе с тем такой очевидной потребности. Несколько недель по прибытии в Киев маликова дочка удерживалась от обыкновенных вольностей, чему споспешествовали чуждые, необжитые пока обстоятельства. Но первое впечатление, полученное ею вне стен княжеского терема, оказалось столь внушительно, столь могуче, что на всю жизнь отпечаталось, вырезалось, как на каменной скрижали, в ее сознании, навсегда и враз переменив способ его присоединения к тому, что для данного сознания обозначалось словами Элоах, Элохим или просто Эл.
Эсфирь (уже Малуша) испросила для себя прогулку, чтобы полюбоваться всеми красотами Киев-града. Проезжая по городу в повозке, в сопровождении нескольких вершников из гриди, она уже была взята в кольцо той красотой, которая только и могла быть ею различима. Впрочем город оказался действительно волшебным: такого количества привлекательных людей в своем окружении в Итиле она не встречала никогда. Можно было иной раз (очень даже можно было!) поглазеть на чернявых смуглолицых детей Волчьей страны[365], служивших в охране дворца, но и среди них не было такого числа прелестников. В небольшом и однако неравномерно развитом мозгу малышки невольно начинали составляться самые невероятные мечты, казалось бы, уже в ближайшем будущем готовые одарить ее своими дурманными цветами. Но тут ее вниманием как-то сумела завладеть огромная толпа, толстым шевелящимся кольцом охватившая площадь. Внутри кольца, вроде как, на земле лежали на расстоянии шести или десяти локтей друг от друга мужчина и женщина (Малуша с повозки могла это разглядеть), оба в разорванных одеждах, с разлохмаченными волосами… Но, если присмотреться, — они вовсе не лежали, а были подвешены на локоть от земли, ибо и руки, и ноги каждого были прикручены толстым ужищем ко врытым кольям.
— Что там пгоисходит? — картаво спросила Малуша у прибывшего с ней толмача, поскольку до того с языком чужой страны не успела ознакомиться даже мало-мальски.
Толмач знал о происходящем столько же, сколько и маликова дочка, поэтому с тем же вопросом обратился к одному из вершников.
— Да что… — отвечал тот. — Будут их сейчас смертью казнить.
— Казнить? — оживился перелагатель. — За что?
— А вон та потаскуха, вишь, с синевицами на рыле-то, пока ее муж по делам в Чернигове был, вовсе слаба на передок сделалась. Ну и нашла потаскунья потаскуна. А вот и час отвечать подоспел.
Насколько то оказалось возможным, все было пересказано Малуше ее соплеменником.
— Работайте Господу со страхом, — переведя положенное, прибавил толмачь вполголоса, видно, себе самому, — и радуйтесь ему с трепетом.
Вскоре действительно появились два человека, то ли назначенных, то ли из родни того мужа, что в Чернигов ходил, — у каждого в руках по топоренку. Ну и стали они поудобнее да и принялись любодеев каждого пополам делить. Мужику-то повезло, — его раздваивать с темени начали. А вот молодайку, поскольку без ее произволения никакому греху невозможно было бы случиться, молодайку рассекали от промежности. Крики, визги, кровь ручьями — зрелище впечатляющее. Случалось такое крайне редко (не удивительно, многим ли захотелось бы после такого назидания участь преступателей русского Закона испытать?), и надо же, чтобы Малуша ровно в этот день и час очевидицей того урока оказалась.
— Потом их на части разрубят, — глядя в средоточие толпы, мимоходом продолжал истолковывать происходящее тот же вершник, — и каждый кусок на дереве повесят. Не здесь. Не в городе. Там, за стеной. Также мы и с ворами поступаем. Известно, вор не брат, а потаскуха не сестра.
Виденное (может быть, не столь продолжительное по времени, но бесконечно долгое по напряжению чувств) произвело на Малушу столь глубокое впечатление, что несколько дней она пролежала в жару и в бреду, потом добрых три недели боялась выходить даже за пределы отведенной ей светелки, а когда все уже в ней угомонилось, и перестали докучать красочные сны, потомица царя Иосифа вдруг приобрела доселе незаметные в ней вдумчивость и кротость. Но поскольку характер дается человеку раз и навсегда, яркие уроки жизни способны переиначивать лишь весьма внешние особенности, в то время, как назначенная ему суть до последнего вздоха остается неизменной. С тех пор для всех вокруг Малуша стремилась сделаться как можно незаметнее, чего было не так сложно добиться, имея ее довольно неказистую внешность. «Крепилась кума, да рехнулась ума», — посмеивался тот, кто мог понимать. Но что деялось у нее внутри, лишь изредка приоткрывалось для одной Ольги, которая, к слову сказать, практически всегда ко всему внешнему оставалась абсолютно безучастной.
Однако при всей бесчувственности, овладевшей княгиней, некое доверительное дружество между Ольгой и пришелицей из счастливой Хазарии все-таки установилось. Во всяком случае, когда померла ее старая ключница Щука, Ольга поставила на то место именно Малушу, несмотря на буйную борьбу между прочими обитательницами княжеского терема, протекавшую, как водится, под спудом.
В День Сварога в княжеском тереме в Ольгиной светелке все утро ушло на уговоры.