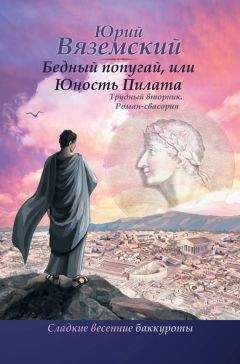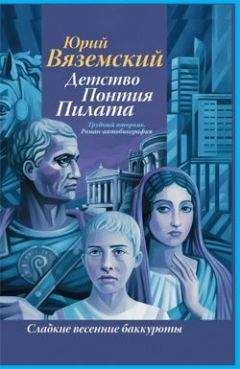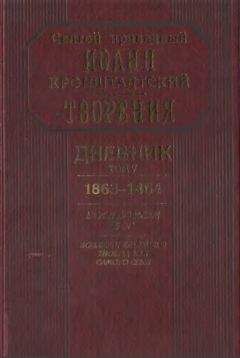Я подошел ближе, и действительно: на столбе между венками были мелко, но четко вырезаны строчки. Я разобрал и прочел лишь одну из них: Hichabitatfelicitas(здесь обитает счастье). Но дальше прочесть не успел — так как дверь в святилище отворилась, и вошел знакомый мне старый Вардин раб. В руке он держал голубка или голубку.
Эту зажатую в кулаке птицу он протянул Гнею Эдию. А тот быстрым и привычным движением свернул ей шею.
Мертвую птицу Вардий уложил на алтарь, чуть в стороне от дымящегося ладана. А потом отпустил раба, подозвал меня и велел обкладывать алтарь маленькими пирожками или хлебцами, самых различных форм, напоминавших то дерево, то корову, то птицу, то человечка без различия пола. Эти фигурки из теста он доставал из плетеной корзины, и я ими обкладывал алтарь по всему периметру.
В заключение, подняв руки, Вардий прочел молитву. Я ее до сих пор помню почти дословно:
«Венера Фата, Венера Лунария, Венера Родительница, Венера Венета, Венера Урания, Венера Диона, Венера Оффенда, Венера Эрицина, Венера Властительница, одари нас любовью, здоровой любовью, радостной любовью, счастливой любовью, изобильной любовью, благодатной любовью во всяком месте, во всякий день, во всяком деле. Молю тебя, милостивая богиня. Молю тебя, царственная богиня. Молю тебя, великая богиня».
Мы опустили руки и вышли из святилища.
III. Обед был, как всегда, изысканный. На закуску нам подали жареного голубя. Вардий сказал, что это тот самый, которого мы принесли в жертву Венере. Богине только голова его была сожжена на сухих миртовых ветках.
IV. Ты, наверное, спросишь: какая же это свасория?
Но разве я не убедил тебя в том, что Гней Эдий Вардий всерьез поклонялся Венере и создал у себя на вилле для нее отдельное святилище?
А если убедил, то — свасория, Луций, свасория!
Свасория семнадцатая
Фаэтон. Благожелательная любовь
I. Ты помнишь? Когда Гней Эдий Вардий сначала в храме, а затем в путеале рассказывал мне о вознесении Феникса, в Новиодуне цвели олеандры.
Когда же мы снова встретились, зацвел миндаль.
Никто меня заранее о встрече не предупреждал. Утром я, как обычно, пришел в школу. И едва начался урок, вошел старый раб Вардия, запросто кивнул учителю Манцию, подошел ко мне и на ухо сообщил, что меня срочно вызывают на виллу. Так и сказал: «Пойдем. Срочно вызывают». Я смутился от такой бесцеремонности и растерянно покосился на замолчавшего Манция. Но тот, не слышав слов раба, но увидев его у себя в классе подле меня, сразу же обо всем догадался и замахал обеими руками в мою сторону: дескать, делай, что тебя говорят, иди, иди и не мешкай.
Я покинул школу и следом за рабом отправился на виллу Гнея Эдия.
У центральных ворот стояли оседланные галльские лошади. К бокам одной из них были привязаны тюки. А вдоль ограды виллы прогуливался мой наставник и благодетель. Заметив меня, он велел одному из рабов — их трое или четверо стояло возле ворот — велел тому, кто держал первую лошадь, подсадить его на животное. И лишь оседлав кобылу, ко мне обратился:
— Ты ведь сын всадника и кавалериста. Умеешь ездить верхом?
Я сперва поприветствовал Эдия Вардия, а потом ответил:
— Немного умею.
— Ну так давай прокатимся. Лошади у меня смирные… Эй, подсадите его.
Я не стал дожидаться, пока меня станут подсаживать: запрыгнул на вторую кобылу, едва коснувшись руками гривы. Ездить верхом, как ты помнишь, меня научили, еще когда был жив мой отец. И Гай Рут Кулан, тот «косматый» декурион, гельвет-римлянин, у которого мы жили с Лусеной, моей мачехой-мамой, разрешал мне время от времени прогуливаться на его лошадях, не злоупотребляя, однако, галопом.
Увидев, как я совладал с лошадью, Вардий испуганно воскликнул:
— Снимите, снимите меня с коня! С таким лихим наездником я никуда не поеду!
Но едва двое рабов попытались выполнить его приказание, Гней Эдий с места пустил лошадь в рысь и, смеясь, прокричал:
— Всё! Поздно, ребята! Кобыла меня понесла! Ко мне, мои верные спутники!
Я тронулся следом за Вардием. За мной, вспрыгнув на лошадь с тюками, зарысил один из рабов.
Мы обогнули город с южной стороны и поехали на запад, по направлению к холмам и Юрским горам.
Кругленький, старенький Вардий — мне тогда казались старыми все люди старше сорока лет — к моему удивлению, неплохо держался на лошади. Раб ехал от нас на некотором расстоянии; видимо, так ему было приказано. Вардий же, когда мы шли рысью, выдвигался вперед, а переходя на шаг, равнялся со мной и рассказывал. Он прерывал свой рассказ, когда снова пускал лошадь рысью.
Начал он без всякого предисловия:
II. — Несколько слов о Тиберии Клавдии Нероне — о том человеке, за которого выдали Юлию, дочь великого Августа.
Детство у Тиберия было трудное. Родился он за несколько месяцев до битвы при Филиппах. Свои младенческие годы провел в постоянных скитаниях, бегая со своими родителями, Тиберием Старшим и Ливией, по Италии, по Сицилии, по Ахайе. В Неаполе их дважды чуть не схватили враги. В Спарте лес вокруг них вдруг вспыхнул пожаром, и пламя так близко подобралось к путникам, что Ливии опалило волосы, а у двухлетнего Тиберия обгорели края одежды.
Когда мальчику было четыре года, у него отобрали мать. Помнишь? Август заставил Тиберия Старшего уступить ему Ливию… Маленького Тиберия оставили с отцом. И, как рассказывали, он очень скучал по матери. Но никогда не плакал. А когда ему становилось совсем нестерпимо, он, говорят, забирался в постель и жевал одеяло. Иногда до утра не смыкал глаз, вгрызаясь в свою тоску…
Мать ему вернули, когда старший Клавдий Нерон, отец его, умер. Август тогда принял мальчика к себе в дом. Тиберию было лет девять или десять.
Образование он получил великолепное, по всем дисциплинам, необходимым для будущей карьеры: по литературе, красноречию, праву, военной науке.
В тринадцать лет он сопровождал колесницу Августа в Актийском триумфе.
В шестнадцать получил первый воинский опыт в Испании, где полным ходом шло покорение кантабров.
В девятнадцать был избран на свою первую должность — квестора — и стал инспектировать тюрьмы для рабов, контролировать поставки зерна, а также удачно выступал в суде и перед сенатом.
В двадцать два года сопровождал своего великого отчима в длительной поездке на Восток. И очень успешно справился с порученными ему важными делами: привез в Рим из Парфии захваченные у Красса штандарты; не проведя ни единого сражения и не пролив ни капли крови, уладил сложный армянский вопрос — поставил армянам царя, нужного им и удобного для Рима.
В двадцать шесть лет стал претором и в двадцать девять — консулом, вместе с Павлом Квинтилием.
Вроде бы Фортуна ему улыбалась. Но Август, правитель мира и «земной Юпитер», как его уже давно называли, смотрел на своего пасынка без всякой улыбки. Тиберий ему, похоже, никогда не нравился.
Начать хотя бы с внешности. Тиберий был высоким, светлокожим молодым человеком, с жесткой копной волос, доставшейся ему по наследству от Клавдиев. У него был массивный, почти квадратный подбородок и угловатые движения. И эта угловатость, эдакая жесткая прямоугольность неприятно резала глаз.
Как и Август, Тиберий был человеком чувствительным и тонким, хорошо разбирался в поэзии, любил музыку, ценил ваяние и живопись. Но утонченность и чувствительность его прикрывались демонстративной приверженностью к простоте, упрямым нежеланием выражать свои чувства и иногда нарочитой грубостью. И Август однажды признался своей жене Ливии, матери Тиберия: «Люблю Мецената за его мягкую и хитрую интеллигентность. Агриппу люблю за его грубую и честную прямоту. А что за человек Тиберий, никак не могу разглядеть». Говорят, Ливия ему ответила: «А ты разгляди в нем моего сына и за это его люби»… Остроумный совет. Но я не уверен, что Август ему последовал.
Тем паче что разглядывать Тиберия было делом крайне затруднительным и неблагодарным. Он тщательно оберегал свой внутренний мир, создав вокруг него как бы крепость, никому не открывая ворот и бдительно защищая мощную и непроницаемую стену своего убежища, когда на нее кто-либо покушался извне. Он был холоден и насторожен ко всем без исключения и особенно к тем, кто пытался выражать ему теплые чувства, добивался его доверия и симпатии. Перед такими людьми ворота его души закрывались на дополнительные запоры, а стена становилась еще более шершавой и холодной. При этом внутри крепости, я охотно допускаю, цвели деревья и пели птицы. А посему снаружи ей полагалось выглядеть совсем уже неприступной. Кто-то сказал про Тиберия, что он готов поделиться последней рубашкой, но теплым чувством и ласковой улыбкой — ни с кем и ни за что на свете!..Август сам был на редкость скрытным и непроницаемым человеком. Но внутреннюю скрытность свою он внешне преподносил как радушную сдержанность, а непроницаемость облекал в одежды задумчивой учтивости. Тиберий же в ответ на его радушие и учтивость неизменно отвечал боязливой настороженностью. Как я понимаю, он боялся открыть ворота своей застенчивой души и тем самым ранить… самого себя. Но он, в каком-то смысле, я думаю, ранил Августа. Будучи сам по природе человеком закрытым, Цезарь в других людях ценил открытость, особенно в тех, кто его окружал и с кем ему приходилось жить и сотрудничать.