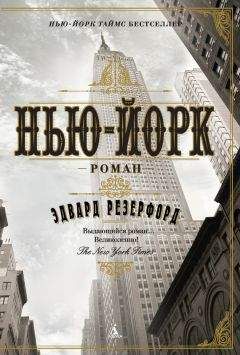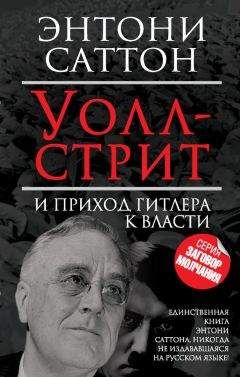Ниагара
1825 годДевочка-индианка наблюдала за тропой. Люди из лодки уже углубились в лес. Она видела, как они вышли на просторную каменистую площадку, поросшую травой, и вздрогнули от внезапного рева воды.
Ей было девять. Она пришла к могучему водопаду со своей семьей. Скоро они продолжат путь в Буффало.
Фрэнк шагал рядом с отцом. Был ясный октябрьский день. Над деревьями синело небо. Они были одни, но по желтым и красным листьям, устилавшим тропу, он мог судить, что многие прошли этим путем.
– Почти пришли, – сказал отец.
Уэстон Мастер расстегнул куртку. Туман пропитал ее влагой, но солнце нагрело. Шея была повязана большим платком. Сегодня он надел вампумный пояс. Пояс был старый; Уэстон берег его и надевал редко. Он опирался на добротную трость и дымил сигарой. От него приятно пахло.
Фрэнк знал, что отец любил находиться в семейном кругу. «Мать я не помню вовсе, – говорил он, – а отец ушел на войну, когда я был маленьким. А потом я отправился в Гарвард и больше его не видел». Вечерами он садился у камина в свое английское кресло, а вокруг собиралось все его семейство – жена и пятеро детей: четыре девочки и маленький Фрэнк; он же играл с ними или читал им вслух. Уэстон предпочитал веселые книги, например притчу Вашингтона Ирвинга о Рип ван Винкле или его забавную историю Нью-Йорка в изложении вымышленного голландца Дидриха Никербокера.
– Почему его звали Дидрихом? – спрашивал он.
– Потому что умер богачом![37] – дружно отвечали дети.
Из лета в лето они по две недели гостили в семействе тетушки Абигейл в графстве Уэстчестер, а еще две – у родни в графстве Датчесс. Чем больше было родственников вокруг, тем лучше себя чувствовал Уэстон Мастер.
Но в прошлом месяце, когда губернатор пригласил его на север к открытию большого канала, Уэстон заявил, что возьмет с собой только Фрэнка.
Фрэнк не впервые отправился вверх по реке Гудзон. Три года назад, вскоре после его седьмого дня рождения, в Нью-Йорке вспыхнула эпидемия желтой лихорадки. В порту постоянно кого-то трясло. «Корабли завозят ее с юга, – объяснял отец, – и мы постоянно рискуем заболеть. Летом, знаешь ли, в Нью-Йорке бывает жара не хуже, чем на Ямайке». Но когда люди начали массово умирать, Уэстон увез семейство в Олбани до лучших времен.
Фрэнку понравилось путешествие. Двигаясь вверх по реке, они рассматривали встававшие на западе Катскильские горы, а отец напоминал, что там-то и уснул Рип ван Винкль. Фрэнк был доволен и Олбани. Шумный город теперь стал столицей штата Нью-Йорк. Отец сказал, что это правильно, так как Манхэттен находился в нижней части штата и всяко был деловым местом, тогда как Олбани располагался ближе к центру и быстро разрастался. Однажды Уэстон отвел домашних в старый форт Тикондерога и рассказал, как американцы отвоевали его у британцев. Фрэнк не очень интересовался историей, но с удовольствием знакомился с геометрией старых каменных стен и орудийных площадок.
В этот раз, достигнув по Гудзону Олбани, Фрэнк и его отец направились на запад. Сперва их экипаж катил по старой платной дороге через северные отроги Катскильских гор до Сиракьюса, затем мимо узких, длинных озер Фингер, за Сенеку и Женеву, а дальше – до самой Батавии и, наконец, Буффало. На это ушло много дней.
Фрэнк посчитал, что знает, почему отец взял его с собой. Конечно, он был единственный мальчик в семье, но дело не только в этом. Ему нравилось познавать устройство вещей. Дома он обожал, когда отец водил его на пароходы и разрешал исследовать поршни и топки. «Принцип тот же, что у больших паровых хлопкоочистительных машин, используемых в Англии, – объяснил Уэстон. – Южные плантации, которые мы финансируем, производят главным образом хлопок-сырец, а мы переправляем его за океан на эти машины». Иногда Фрэнк ходил на пристань и смотрел, как упаковывают лед, чтобы тот не растаял за долгий путь до кухонь в особняках тропической Мартиники. Когда весной в их доме наладили газовое освещение, он до последнего дюйма изучил трубопровод.
Поэтому он рассудил, что отец естественным образом выбрал его, дабы засвидетельствовать открытие огромного инженерного сооружения на севере.
Уэстон Мастер затянулся сигарой. Тропа напоминала туннель, но там, где деревья заканчивались, уже виднелась дуга ясного неба. До нее осталось недалеко. Он глянул на сына и улыбнулся. Он был рад Фрэнку. Мальчишке полезно побыть с отцом, а кроме того, он собирался поделиться с сыном кое-чем особенным.
Прошло уже больше тридцати лет с тех пор, как в Лондоне неожиданно погиб его собственный отец. В письме от старого мистера Альбиона говорилось, что он пал жертвой уличных головорезов, – возможно, их целью был обычный грабеж. Но Джеймс Мастер задал им такую трепку, что один из них так и не оправился от удара увесистой палкой. Известие не только нанесло Уэстону тяжелейший удар, но и закрепило предубеждение, которое он сохранил до скончания дней. На протяжении всего детства, прожитого в Нью-Йорке, он по неясной для себя причине всегда воображал, будто именно Англия отняла у него мать. Война с той же Англией разлучила их с отцом, а однокашников заставила называть его предателем. И не успели затянуться эти раны, как грянула весть, что Англия, подобно некоему ненасытному древнему божеству, забрала и отцовскую жизнь. Он был разумным юношей, студентом Гарварда, но все-таки, когда это случилось, не пришлось удивляться тому, что в его душе укоренилось физическое неприятие как Англии, так и всего английского.
Со временем это неприятие расширилось. Пока он учился в Гарварде, а во Франции происходила революция, Уэстону казалось, что в этой стране, вдохновленной примером Америки, занялась заря новой европейской свободы. Но когда либеральный строй, на который надеялись Лафайет и его друзья, сменился сначала кровавым террором, а после – воцарением Наполеона, Уэстон сделал вывод, что в Старом Свете невозможны свободы Нового. Европа слишком погрязла в древней ненависти и соперничестве. Весь континент представился Уэстону опасным местом, от которого лучше держаться подальше.
Он оказался в отличной компании. Не сам ли Вашингтон в прощальной речи предостерег американский народ от вмешательства в зарубежные распри? Джефферсон, знаменосец европейского просвещения и бывший парижанин, сказал о том же: пусть Америка поддерживает честные, дружеские отношения со всеми народами, но не вступает ни с кем в альянс. Мэдисон согласился. Даже великий дипломат Джон Куинси Адамс, поживший во многих странах – от России до Португалии, сказал то же самое. Европа была источником неприятностей.
Их мудрость была доказана двенадцать лет назад, когда Британия вступила в тяжелейшую борьбу с империей Наполеона, а Соединенные Штаты, повязанные с Францией договором о дружбе, очутились в ловушке между противоборствующими сторонами. Уэстон испытал сперва раздражение, когда Британия, не будучи в силах снести нейтральные торговые отношения Америки с врагом, начала чинить препятствия американскому судоходству, затем отчаяние, когда споры переросли в более серьезный конфликт, а после – ярость, когда в 1812 году Америка и Британия вновь оказались в состоянии войны.
У него остались горькие воспоминания о ней. Британская блокада Нью-Йоркской бухты едва не разорила его торговлю. Бои вдоль Восточного побережья и дальше, в Канаде, обошлись в десятки миллионов долларов. Проклятые британцы даже спалили президентский особняк в Вашингтоне. Когда это скотство закончилось три года спустя и Наполеон сошел с подмостков истории, облегчение Уэстона дополнилось железной решимостью.
Америка впредь не должна попадать в подобное положение. Она обязана быть прочной, как крепость. Недавно президент Монро пошел и на большее. Он заявил, что в целях подлинной безопасности Америки необходимо сделать сферой ее влияния все западное побережье Атлантики – Северную Америку, Карибские острова и Южную Америку. Другие страны пусть ссорятся, если им нравится, в Европе, но не в Америках. Это было дерзкое заявление, но Уэстон был полностью с ним согласен.
Зачем американцам заокеанский Старый Свет, когда у порога есть собственный, необъятный континент? Могучие реки, пышные долины, бескрайние леса, великолепные горы, плодородные равнины – страна бесконечных возможностей, протянувшаяся на запад и обгоняющая закат. Богатство и вольница целого материка на тысячи миль – бери и пользуйся!
И эту великую правду, эту грандиозную панораму Уэстон хотел донести до сына в их путешествии на запад.
Ибо как минимум для Нью-Йорка и для Мастеров в частности недавно построенный канал был составным элементом этого величественного уравнения. И Мастер постарался растолковать Фрэнку его важность еще до отъезда. Разложив на столе в библиотеке карту Северной Америки, он показал главное: