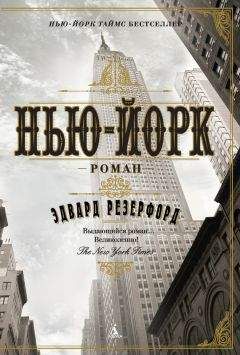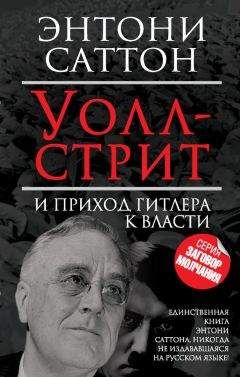– Да, – согласилась она. – Это навряд ли.
25 ноября 1783 года Континентальная армия численностью восемьсот человек под командованием генерала Джорджа Вашингтона мирно проследовала по старой индейской тропе из селения Гарлем и вступила в Нью-Йорк. Медленно проезжая по Бауэри и Куин-стрит мимо ликующей толпы, Вашингтон свернул на Уолл-стрит и выехал на Бродвей, где в его честь были произнесены хвалебные речи.
Мастер и домочадцы отправились на Уолл-стрит смотреть, как входят войска патриотов. Джеймс ехал в каких-то двадцати футах позади Вашингтона. Абигейл отметила, что отец весьма доволен происходящим.
– Сразу видно государственного человека, – бросил он одобрительно.
Но еще большее удовольствие доставил ему мелкий эпизод, разыгравшийся позднее. В честь генерала устроили банкет – в таверне Фронса, до которой от дома Мастера было рукой подать, и Джеймс заранее пришел переодеться. Когда он уходил, цокот копыт возвестил прибытие Вашингтона и его офицеров, направлявшихся к месту сбора. Джеймс приветствовал их на улице, Абигейл и отец наблюдали с порога.
И вот, взглянув на них, высокий и важный джентльмен любезно поклонился Абигейл и, как уже было однажды, но теперь с кивком признания и даже намеком на улыбку, прикоснулся к шляпе, здороваясь с ее отцом, который низко склонился в ответ.
Чуть погодя, за обедом в обществе Абигейл и Уэстона, Мастер велел Гудзону откупорить бутылку лучшего красного вина и предложил тост.
– Итак, Эбби, – произнес он бодро, как никогда, – и ты, Уэстон, мой обожаемый внук, хочу сказать вам, что мир, который я знал, перевернулся. Давайте же выпьем за новый!
1790 годДжон Мастер яростно уставился на собравшихся. От летней жары в доме стояла духота. Наверное, он выпил лишнего. Жаль, что нет Абигейл, – она всегда держала его в рамках. Но роды могли начаться в любую минуту, а потому она осталась у себя в доме в графстве Датчесс. Джон Мастер сверлил взглядом всех: сына Джеймса, выпускника Оксфорда, внука Уэстона, готовившегося поступать в Гарвард, и их почтенного гостя, чье возмутительное заявление Джеймс и Уэстон одобрили целиком и без единого звука протеста.
– Что касается моего мнения, – сказал Джон Томасу Джефферсону, – то можете отправляться в ад!
Правда, Мастер догадывался, что Томас Джефферсон не верил ни в ад, ни в рай.
До этого дня Мастер сам удивлялся, до чего ему нравится быть гражданином Соединенных Штатов Америки. Лично Вашингтона он глубоко уважал. Во время его инаугурации в столичном городе Нью-Йорке Мастер стоял в толпе на Уолл-стрит, тогда как великий муж присягал на балконе Федерал-Холла; и Мастер с гордостью проходил по улицам с Джеймсом, где его сына приветствовали как почитаемого друга великие люди нового государства – Адамс, Гамильтон, Мэдисон.
На него произвела сильное впечатление новая Конституция, подготовленная в Филадельфии лучшими умами страны. Система сдержек и противовесов показалась ему такой замечательной, что лучше документа не придумать. Он встал на сторону федералистов, когда они с Мэдисоном выступили против тех, кто полагал, что штаты пожертвуют толикой независимости ради сильной центральной власти.
– Мы должны принять Конституцию такой, какая она есть, – заявил он.
Но в этом пункте его врожденный консерватизм вступил в конфликт с мнением сына.
– Я за Джефферсона, – возразил Джеймс.
Джефферсон представлял новое государство в Париже, одобрил Конституцию, но сделал одно замечание. «Конституция пока не гарантирует свободу индивидуума. Без поправки наша республика придет к такой же тирании, как старые монархии наподобие Англии». Это сильно преувеличено, возразил отец, но Джеймс уперся. Он заявил, что нет гарантии свободы ни вероисповедания, ни печати. Насчет последнего он даже взялся читать родителю лекцию о процессе Зенгера, и Мастеру пришлось напомнить:
– Я знаю о Зенгере, Джеймс. Это было при мне.
– Но ты же был за него?
Припомнив с усмешкой свою дурную мальчишескую выходку во время визита бостонских родственников, Джон Мастер сказал только:
– Я слушал речи моего кузена Элиота Мастера, который горячо ратовал за Зенгера. И у него, черт возьми, это получалось лучше, чем у тебя! – добавил он, желая поставить Джеймса на место.
– В семьдесят седьмом, – продолжил Джеймс, – Джефферсон предложил билль о свободе вероисповедания в Виргинии. И нам нужна поправка по этому пункту. Иначе Конституцию не ратифицируют ни Нью-Йорк, ни Виргиния.
И когда Первую поправку внесли, Джеймс расценил ее как личную победу Джефферсона.
Не приходилось сомневаться, что дело было в прирожденном консерватизме, но Мастер при всем уважении к новой республике не мог вполне примириться с глубочайшей светской веротерпимостью.
Провинился даже Вашингтон. Конечно, президент всегда соблюдал приличия. Церковь Троицы еще отстраивали после пожара. Мастер посещал красивую часовню Святого Павла, что находилась по соседству, и с неизменным удовольствием наблюдал на тамошней скамье президента с супругой, пусть даже Вашингтон уходил, не дождавшись причастия. Но Вашингтон дал понять, после чего в этом не осталось ни малейшего сомнения, что ему решительно безразлично, какую веру исповедуют его граждане. Протестанты они, католики, иудеи, атеисты или даже последователи пророка Магомета – Вашингтон заявил, что все едино, пока они соблюдают новую Конституцию.
Другие, казалось Мастеру, вели себя не столь честно. Скончавшийся весной Бен Франклин объявил перед смертью, что является членом всех церквей и молился со всеми. Хитрый старый лис.
Но Джефферсон, этот красавец-аристократ с Юга, с блестящим образованием и модными парижскими друзьями, который вернулся в Америку для руководства ее внешней политикой, – кто он такой? Возможно, деист. Один из тех, кто говорит о наличии некоего высшего существа, но ни черта из этого не выводит. Удобная религия для самодовольного хлыща.
А нынче он, подумал Мастер, читает мне, члену приходского управления церкви Троицы, лекции о безнравственности Нью-Йорка и его непригодности к роли столицы Америки. И это, вообразите, говорит человек, который не вылезал из парижских борделей!
Такого он не потерпит.
– Нравится вам или нет, – с жаром продолжил Мастер, – но столицей Америки, сэр, является Нью-Йорк! Он ею и останется.
Город и правда начинал выглядеть по-столичному. С тех пор как Америка превратилась в отдельное государство, жизнь не баловала. Многие штаты, страдавшие от ограничения торговли с Британией и остальной Европой, не говоря уже о военных долгах, еще не оправились от депрессии. Но Нью-Йорк восстанавливался быстрее. Предприимчивые купцы изыскали способы наладить торговлю. В город постоянно прибывали новые люди.
Да, местами еще сохранились руины, оставленные пожаром. Но город возрождался. Открылись театры. Над горизонтом вознеслись блистательные колокольня и шпиль новой церкви Троицы. И когда конгресс постановил сделать Нью-Йорк столицей нового государства, горожане отреагировали немедленно. Сити-Холл на Уолл-стрит – теперь он назывался Федерал-Холлом – отремонтировали и превратили в отличное временное здание легислатуры, а старый форт в нижней части Манхэттена успели снести и превратить в свалку, расчищая на берегу место для великолепного комплекса, в котором расположатся сенат, палата представителей и многочисленные государственные учреждения. А где же это строить, как не в Нью-Йорке?
Вмешался Джеймс, захотевший снизить накал страстей:
– Видишь ли, в чем дело, отец, многие говорят, что ньюйоркцы поклоняются только деньгам и слишком любят роскошь.
– Непохоже, чтобы это тревожило Вашингтона, – парировал отец.
Великолепная карета президента с шестеркой лошадей не имела себе равных в городе. Джордж и Марта Вашингтон уже переехали в отличный новый особняк на Бродвее, где развлекались на широкую ногу не хуже любого местного «денежного мешка». Да и что в этом плохого?
Но Мастер вздумал напасть на Джефферсона, а этот джентльмен умел дать сдачи. Его красивое, чеканное лицо закаменело, и он ответил суровым взглядом.
– В Нью-Йорке, сэр, мне не нравится то, – произнес он холодно, – что мы воевали за независимость, а в нем живут главным образом тори.
Тут он был прав. Война вывела в дамки патриотов и бедноту всех мастей, но старая городская гвардия – среди которой действительно было много тори – ухитрилась сохраниться на удивление хорошо. Если взглянуть на людей, покупавших дома и земли уехавших или репрессированных крупных землевладельцев, то имена говорили сами за себя: Бикман, Говернер, Рузвельт, Ливингстон – такие же зажиточные джентльмены из купечества, каким был и сам Мастер.
Но почему же городу не быть из-за этого столицей Америки?
Нет, решил Мастер, все дело в зависти. В чистой и незатейливой зависти. Одно дело, если на статус столицы претендовала Филадельфия, – это он мог понять. Каждый город искал свою выгоду, и Мастер теперь, когда Бен Франклин был мертв, подозревал, что Филадельфия утратила толику яркости. Однако нажим исходил вовсе не из Филадельфии.