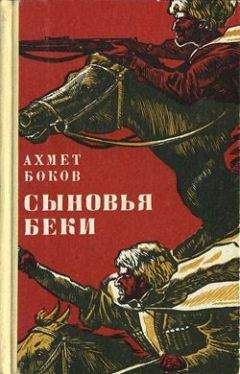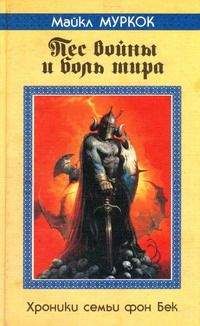Дальше Митя ничего не помнит из того, что тот говорил. Он рванулся и побежал от этого хромого кликуши, а когда наконец обернулся, ничего уже не было видно – ни хромого, ни коня, ни той узкой улочки. Уходя все дальше, Митя стал обдумывать, что же ему делать. Искать свою сотню? Но зачем? В ушах все еще звенели слова рыжебородого: «Тебе царь нужен? Война нужна?»
Оно конечно, царь Мите не нужен, ничего такого хорошего царь ему лично не сделал. Слыхал, правда, Митя, что будто казакам сделал много хорошего. Только не всем. Это уж Митя точно знал. А службу царь требует со всех одинаково… Вот взять его родителей. Чего они видели хорошего? Последнюю лошадь и ту на войну отдали. Перед глазами вдруг встал отец: худое лицо, грустные глаза – им словно бы надоело глядеть на этот мир, ввалившаяся грудь. А мать? Холодные, сухие, в синих прожилках руки, бледные, без единой кровинки губы… Мите представилось на минуту, что и отец и мать в окружении каких-то людей. Вот эти люди с оголенными кли гаками наседают на них. Отец будто бы стоит, выставив вперед свою впалую грудь, и сердито глядит вроде бы прямо на Митю, да с укором. «Господи, да что же это происходит? Сплю или наяву мне все грезится?» – тряхнул головой Митя.
…Сколько времени прошло с тех пор! И чего только не приключалось с ним, чего только не вынес он, сколько одних пуль пролетело со свистом над ухом, а путь какой трудный и долгий!..
Вспоминая все свои беды, Митя хмурит брови. Он лежит на верхней полке, подперев кулаками подбородок, и смотрит в окно. Его очередь прохлаждаться на верхней полке. А внизу вон что делается: люди сбились в кучу, как цыплята под крылом квочки в холодный вечер.
После Мити полку займет Хасан, а сейчас он снизу смотрит на Митю, который за время пути стал ему как родной. Хасану даже кажется, что Митя похож на ингуша – и носом с горбинкой и смуглым худощавым лицом. Только языка не знает. А знай он его – настоящий ингуш, и только. Хасану жаль, что Митя не говорит по-ингушски: вот бы вволю душу отвели. А то что получается? Хасан толком русского не знает, так и-не выучился, хотя ведь уже три года дома не был. Правда, от того, что знал дома, Хасан ушел далеко. Теперь он мог бы и с Ис-маалом и даже со старшиной Ази поспорить. Но до Дауда и Малсага ему еще далеко. Если бы Хасан знал язык, как они, не сидел бы сейчас молча. Он хорошо понимает, о чем говорят другие, но едва сам захочет что-нибудь сказать, слова куда-то исчезают, язык становится тяжелым. С трудом удалось ему поведать попутчику своему о всех злоключениях, какие пришлось пережить. Весь взмок, пока втолковал, как и что, да и то под Митину подсказку-догадку.
Путь Хасана к Кавказу тоже был очень трудным. Весть о свершении революции застала его в госпитале, куда он попал еще в конце лета после ранения в грудь. Рана была тяжелой, выздоровление наступало медленно. Дни казались нескончаемо длинными и мучительно однообразными. Но вот наступил конец томительному ожиданию – Хасан покинул госпиталь. Что делать дальше? О том, чтобы идти снова на фропт, пока не могло быть и речи: слишком он был слаб после столь тяжелого ранения…
Сосед по палате, русский солдат, провожая Хасана, махнул рукой и сказал:
– Подавайся-ка ты, брат, домой. Где его теперь отыщешь, твой полк? Да и на кой дьявол он тебе нужен? В селе твоем небось дел невпроворот. Я вот выпишусь – тоже домой подамся. В наших местах новая власть, ее теперь защищать надо. Это тебе не за царя-батюшку живот класть, свою, народную власть охранять надобно! У вас, я думаю, тоже богатеев скипули?…
Хасан недолго задумывался над тем, как ему быть: он твердо решил пробираться домой. К тому же ему повстречался солдат, который рассказал, что ингушский кавалерийский полк, в котором он служил, как и некоторые иные полки так называемой «дикой дивизии», в ранние осенние дни был снят с фронта и переброшен под Петроград. Солдат рассказал и о том, что ингуши воспротивились, категорически отказались выступить против революционного Петрограда и полк в полном составе вернулся во Владикавказ.
Тут уж Хасан не размышляя тронулся в путь. Чего только не перенес он! Дважды его арестовывали. Во время первого ареста, обнаружив у него в кармане наган, чуть не расстреляли – приняли за большевика. Спасся он бегством. Не раз и после жалела его пуля, не раз смерть обходила стороной.
На Дону Хасана задержали, взяли в казачье войско. Объяснили, что, мол, нет между казаком и кавказцем никакой разницы и что власть на Дону и на Кавказе будет одна, общая. Краснов, мол, не оставит кавказских казаков, ну и горцев, конечно. Дали Хасану коня и оружие. А когда он поинтересовался, какую власть охранять будет, ответили – новую. Хасан и решил: раз новая – значит, та, о которой они мечтали с Даудом. А Краснова посчитал за вождя красных. По фамилии. Решил, что и красных называют так оттого, что глава войска Краснов.
Но когда в одном селе казаки его войска расстреляли группу большевиков и их сторонников, Хасан понял, куда он попал. И сумел уйти от белых, но время службы у Краснова долго будет тяжелым камнем лежать на его душе. Тогда же он наконец разобрался в друзьях и врагах большевиков. И с тех пор все, кто против большевиков, – его враги…
Хасан встал и тихонько пошел по вагону.
– Куда ты? – спросил Митя.
– Хочу поискать, нет ли в поезде ингушей, расспросить, что творится у нас.
Все вагоны были до отказа набиты людьми. Запах пота, давно не мытых тел забивал ноздри. Во всех углах копошились и плакали дети. Трудно им было уснуть в этих душных и тесных вагонах. Какой-то солдат-инвалид в потертой шинели шел и пел себе под нос, протянув свою единственную руку. Остановившись перед Хасаном, он перестал петь и проговорил:
– Помоги, браток, подай калеке.
Хасан хлопнул себя по груди и по карманам брюк, дав понять, что денег у него нет; на последние он на одном из полустанков купил себе полбуханки хлеба. Солдат посмотрел ему вслед, покачал головой и сказал:
– Люди! Как же мне теперь жить, калеке? Ведь и не подаст никто. Не умирать же с голоду?…
Постояв с минуту, он махнул рукой и пошел дальше.
А люди, к которым он обращался, словно виновные в том, что сами бедны, опустили головы и ждали: скорее бы ушел, не тянул бы их за души.
Хасан нашел двух ингушей. Трудно передать, как он обрадовался.
На вопрос, откуда они едут, те ответили, что из России, из Тулы, а зачем туда ездили, не сказали. Да Хасан и не стал допытываться. Его интересовало другое: что нового в Ингушетии, как люди живут, какая там власть. Узнав, что в Ингушетии и в Чечне советская власть, он даже замер от счастья, а сообщение, что жители селений Алханчуртской долины поделили между собой помещичий скот и земли, еще дополнило его радость. Но узнал Хасан и такое, что огорчило его: казаки с горцами нет-пет да и схватываются между собой.
Двое ингушей заторопились. Поезд шел через Моздок, а им, оказывается, надо в Назрань, следовательно, придется в Прохладной пересесть на другой поезд.
Вагоны замедлили свой бег и остановились. Хасан тоже вышел из вагона.
– Вот и Прохладная, – сказал один из ингушей. – Опасное это место. Недавно здесь убили Караулова.
– А кто это? – спросил Хасан.
– Казачий атаман.
Назрановцы не досказали, кто и за что убил атамана. Путь им неожиданно преградили два вооруженных казака.
Оба ингуша были спокойны, ну а Хасан тем более.
– Вы ингуши? – спросили казаки.
– Да, – ответил идущий впереди.
– Идите к вокзалу! – сказал один из казаков, наставив наган. – За сопротивление и попытку к бегству – смерть!
Они бы, может, и оказали сопротивление или попытались бежать, но вокруг было слишком много казаков.
– Мы в руках божьих, – сказал старший из ингушей и направился к станционному зданию.
– Если бы не только мы, но и наши пожитки были в его руках, тогда бы еще куда ни шло, – сказал второй.
– Молчать! – оборвал казак.
Хасан не знал, куда их ведут и что они такого сделали, чтобы так их охранять? Хотя он-то, положим, сбежал из казачьего войска. Только откуда этим казакам знать об этом?