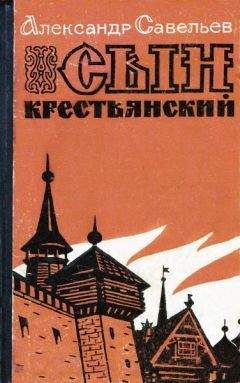— Почтенные! Вы что на меня воззрились, как бараны на тесовые ворота?
Те яростно загалдели:
— Ага, вот он каков, вор-то! Буде! Попил нашей кровушки!
— Ишь ты чего захотел! Супротив самого хребта государственного пошел, супротив боярства и дворянства попер!
— Вот и напоролся, аспид, на рожон!
— Великого государя низложить удумал, вор!
— Православные, пошто без кандалов сидит сей изверг рода человеческа? Как это вам нравится, а?
— Бить его, сукина сына, надо!
Бородачи стали от злобы багроветь. Болотников встал. Они невольно со страхом попятились, глядя на окаменевшее лицо и мощную фигуру Болотникова. Потом опять придвинулись. Обращаясь к сивобородому не то дворянину, не то купчине в собольей шубе, тот спокойно произнес:
— Бить, баешь, твое степенство! А бил ли ты меня, когда я вас, таких, как ты, тысячами глушил, как чертей в болоте? Сидел, твое степенство, в месте покойном да дрожал: пронеси ты, господи!
Тут он озлобился, глаза засверкали, голос зазвенел.
— Ныне супротив безоружного все вы храбрые, живоглоты! Почто без кандалов сижу? Стерегите крепко меня! Коли вырвусь, как бы вам погано не стало! Как бы вас в кандалы не заковал!
Окончательно рассвирепевшие «степенные» полезли было бить Болотникова. Стража с бердышами сомкнулась вокруг него и увела.
На следующее утро отправились дальше.
Болотникова отвезли в захолустный грязный городишко Каргополь, подальше с глаз людских, и засадили в острог. Просидел он там месяцев шесть.
Но и сюда, сквозь толстые тюремные стены, проникали слухи о продолжающемся брожении в народе. Поднимались против бояр и помещиков вооруженные вилами и кольями села, деревни. Не сдавались «на милость царскую» и продолжали биться не на жизнь, а на смерть отдельные города. Восстание то гасло, то вновь разгоралось.
Царь Василий Шуйский, боясь как огня новых народных волнений, содрогаясь даже от одного упоминания имени Болотникова, решил с ним покончить.
Однажды под вечер в тесную острожную клеть, где у окна сидел Иван Исаевич, вошел грузный, еще не очнувшийся от сна, полупьяный тюремный начальник, с ним два стража и поп. Начальник громко объявил:
— По велению царскому ты, вор Ивашка Болотников, примешь заутра смерть.
Иван Исаевич вздрогнул. Шуйский обманул его, обещав прощение. Царь оказался верен себе. Это была его очередная хитрость.
Болотников полной грудью вдохнул теплый летний воздух, повеявший из окна, и спокойно произнес:
— Передай Ваське Шуйскому, что смерть мне не страшна. Я умру, но народ знает, что семена, посеянные мной, будут расти. И пусть царь страшится гнева народного.
Начальник громко икнул и усмехнулся. Поп помахал в воздухе потускневшим от времени и частого употребления серебряным крестом, спросил:
— Желаешь ли покаяться пред смертью, попросить у господа бога прощения?
— Не желаю, грехов у меня нет, и прощения мне не надо. Хватит царского.
Болотников повернулся к вошедшим спиной.
Захлопнулась тяжелая дубовая дверь, заскрипел ржавый засов, затихли шаги. Наступила тишина…
Иван Исаевич взглянул через окно на далекое небо, озаренное закатом солнца, на ветку красной рябины, невесть откуда попавшей на тюремный двор. Плененный, но не сломленный, он стоял, поглощенный своими думами.
«Перехитрил меня лукавый Шуйский, — побежали чередою мысли нестройные, отрывочные. — Проруху допустил я… Когда стояли мы под Москвой, надо бы сразу со всех сторон окружить ее. Поздно спохватились. Не удумали…»
Перед Иваном Исаевичем, как никогда, отчетливо встали все его ошибки, промахи.
«Да, понятно, понятно! Мало уразумел я буйную силу народную, вот и не справился с Шуйским… А хороший царь, будь он трижды хороший, воли народу не даст…»
И далее текли мысли:
«Тулу затопили недруги — тут уж ничего не поделаешь. А если бы не эта наша беда, разбили бы мы царя Шуйского, как разбили Ивана Шуйского да Мстиславского под Калугой, и пошли бы мы далее по Руси-матушке, разлились бы рекою многоводною, зажгли бы пожар великий повсюду!»
Болотников радостно улыбался во тьме, а потом опять хмурился.
«Что же нужно, чтобы народ осилил Шуйского или другого царя со боярами да дворянами?»
Болотников долго искал ответ на поставленный вопрос и… не нашел.
Было мучительно больно сознавать, что он не нашел пути к победе. Но вместе с тем его успокаивала мысль, что движение народных масс за свободу, против бояр и помещиков с его смертью не кончится, что оно будет расти, расширяться, что народ никогда не оставит мечты о воле вольной. Желаемое должно свершиться. В этом он был твердо уверен.
Думы о ратных делах вызвали воспоминания о прожитой жизни: о том, что было, казалось, совсем недавно, вчера, и что прошло давным-давно и быльем поросло. Эти воспоминания согревали душу, примиряли с действительностью.
Жизнь прожита не зря.
…Вот мост через большой канал в Венеции… Вероника, милая, продающая на улице цветы. Друг Альгарди. Домик на взморье, где прошли светлые годы московита Джованни.
А вот Телятевка… Маманя печет овсяные блины… Гурьба ребят по вечерней заре едет на своих сивках-бурках в ночное. Кругом поля, а вдали манит лес… Приехали на опушку, стреножили коней, пустили пастись, а сами костер развели, кашу в таганке варят. Шутки, смех. Сказки страшные рассказывают… Филин в чаще ухает. Взошел над лесом месяц и словно смеется, на ребят глядя… Славно!
Еще воспоминание. Горит костер на берегу озера, а кругом — хвойный дремучий лес. Верхушки деревьев и неподвижная вода освещены последними лучами в красноватый цвет, а берег у костра и сами деревья темно-коричневые. У огня сидит Иван и думу думает о вольном Доне, куда податься надо, где нет царя с боярами да дворянами…
В памяти проходили одна картина за другой. Он не хотел думать о том, что с ним будет завтра. Гнал от себя эту мысль. Его всего наполнило огромное чувство гордости за свой народ, такой великодушный, умный, свободолюбивый, народ, которому он отдал себя бескорыстно, до конца и который безраздельно любил.
В думах о прожитом вспыхивало большое отцовское чувство к Олешке. Он встает перед глазами как живой.
Вот он, Болотников, проходит в хату к чеботарю послушать игру Олешки на гуслях. Льются звуки простой, бесхитростной песни, смеются синие глаза Олешки.
— Где ты, жив ли, родной мой?!
За решетчатым окном давно уже спустилась летняя ночь. На чистом темно-голубом небе взошел серп луны. Подрагивая от ветерка, ветка рябины то скрывала его, то вновь светлые лучики пробивались сквозь листву.
Было удивительно тихо.
Под утро, склонившись на скамью, Иван Исаевич незаметно уснул.
И снятся ему… Олешка вместе с Парфеновым. Оба сидят на конях. Те бьют копытами о землю, нетерпеливо ржут, рвутся. Всадники с трудом их удерживают, зовут:
— Скорей, скорей, воевода!
Федор Гора подводит ему любимого коня.
— Седай, друже.
Он, Иван Исаевич, вскакивает на коня, конь рванулся, и все четверо уже мчатся как вихрь по шляху в гору. Пыль клубится столбом. От стука копыт земля гудит. Парфенов приподнялся в седле, крикнул:
— Вперед! Вперед! К жизни вольной. Без бояр, без…
И все пропало…
Болотников проснулся от грубых толчков. Над ним стояли тюремщики. Сквозь окно, забранное в железа, пробивалось яркое солнце.
Иван Исаевич поспешно встал.
Его связали. Бросили на пол. Придавили коленом. Палач выколол ему глаза шилом.
Болотников не издал ни стона, ни звука.
Его положили на телегу. Увезли к реке. Привязали к ногам тяжелый камень. Бросили в воду.
До конца он молчал.
А по Руси продолжали перекатываться грозные волны крестьянских восстаний. Они то затихали, то нарастали. На гребне ее оказывались новые люди: Степан Разин, Кондрат Булавин, Емельян Пугачев.
Но среди новых борцов за лучшую народную долю, даже триста лет спустя, ходили легенды, сказы, звучали песни о народном вожде, крестьянском сыне Иване Болотникове.
Память о нем не угаснет.
Порядная — договор.
По этому обычаю за неделю до и после Юрьева дня (26 ноября, то есть по окончании полевых работ) крестьяне имели право заявить землевладельцу «отказ» от порядной и, расплатившись по всем обязательствам, уйти с его земли.
Иван IV Грозный.
Мисюрка с бармицей — вид шлема; мискообразный головной убор со свисающим защитным обрамлением позади.
Тарпан — дикая степная лошадь.
Вентерь — рыболовный снаряд, сетчатый кошель с крыльями.