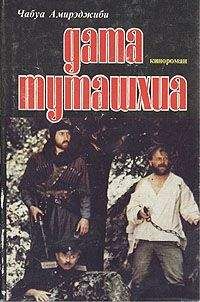— У нас еще и выбор есть? — Я рассмеялся, так как вопрос Зарандиа выходил далеко за рамки наших возможностей и компетенции.
— Смотря по тому, как сложатся обстоятельства, ваше сиятельство.
— Но из чего мы исходим?
— Единственно из интересов империи и престола. Как всегда! Дать Сахнову возможность стать шефом жандармов было бы ошибкой, могущей обернуться трагедией для империи. Это была бы акция, направленная на подрыв государственных интересов. Я убежден в этом, и отвечаю за свои слова только я.
Мушни Зарандиа откланялся и покинул кабинет, не дожидаясь моего ответа.
Я вдруг обнаружил, что впервые за долгие годы своей службы — совершенно невольно и незаметно для себя — вступил во взаимоотношения, уязвляющие мое служебное достоинство. И с кем? Со своим подчиненным! И для меня, и для Зарандиа полковник Сахнов был вышестоящим лицом, и лишь только после этого — человеком с определенными достоинствами и недостатками. Всякий тайный поступок или помысел, направленный против него, мог трактоваться как нарушение профессиональной этики, приближающееся по своему смыслу к нарушению присяги. Бесспорно, действия Сахнова заслуживали порицания и осуждения, но для этого необходим был мой или чей-либо письменный рапорт, посланный по соответствующей форме в соответствующие инстанции, которые бы изучили его и соблаговолили или не соблаговолили решить это дело. Я почувствовал, что Мушни Зарандиа намерен бороться против Сахнова средствами, не дозволяемыми субординацией… Моей прямой обязанностью — и при этом безотлагательной — было потребовать от него письменного разъяснения, наложить взыскание, если это будет необходимо, и обо всем, что случилось, рапортовать шефу. Так было принято, и ничего другого я не мог ни представить себе, ни допустить. Так я и предполагал поступить, но что-то удерживало меня. То, видимо, — рефлектировал я, — что я уже поддался влиянию своего подчиненного и боюсь признать собственную вину. Я восстановил в мыслях всю цепь взаимоотношений Сахнова и Зарандиа, вспомнил все свои беседы с Мушни: нет, я не подстрекал его к действиям против Сахнова, не давал толчка, даже скрытого, я просил лишь задуматься о том, не угрожает ли нам что-либо… Только это и было, но не находил я в себе желания воздать Зарандиа по заслугам.
…А не мог бы он (моя мысль потекла вдруг по другому руслу) воспользоваться нашей последней беседой против меня? Мог! Стоило ему подать министру, шефу или самому Сахнову рапорт — и мне пришлось бы доказывать, что меня вовсе не втянули в грязную историю. Я взялся было за перо, но не смог вывести и строки, мало того, только сейчас, наедине с пером и бумагой, я понял окончательно, что не предприму против Зарандиа и шага, ибо не хочу этого! И это был уже компромисс. Один из важнейших стереотипов моего понимания служебного долга лопнул, как мыльный прузырь, — у меня на глазах и без малейшего моего сопротивления. Видимо, тогда впервые возникла трещина в моем сознании и в моих представлениях о духовных ценностях.
Почему?
Я долго размышлял над этим. Сахнов никогда не был мне страшен. Мой вес и мои заслуги надежно защищали меня. К тому же я был состоятельным человеком, и отставка не выбрасывала меня из жизни. Я попал под влияние
Зарандиа? Говорю уверенно: я весьма почитал этого человека, но настороженное отношение к нему никогда не исчезало во мне. Не оставалось сомнения — стереотип, о котором я говорил, прекратил свое действие…
ТОЧИ МИКАШАВРИА
В ту пору, когда я ушел в абраги, другие замирялись с правительством и возвращались к семьям. У меня в абрагах ходили два двоюродных брата со стороны матери — оба Чантуриа, — и я укрылся у них. Мне шел тогда пятнадцатый год. Почему мне пришлось стать абрагом, я уже рассказывал, — повторять не буду.
В тот год снова подался в абраги и Дата Туташхиа. Пришел он в Мухурские горы, нашел нас… Я говорю, конечно, о своих двоюродных братьях, на меня смотрели еще, как на дитя, какие у него со мной дела?.. Меня и отослали — за чем, не помню, а сами наговорились всласть, и когда я вернулся, Даты уже не было. Только много позже я узнал, о чем они говорили и почему он вернулся в абраги. Дата им сказал, моим двоюродным братьям: по каким дорогам ходите, где укрываетесь и что делаете — я знать не знаю. И знать не хочу. Но если что с вами случится — не моих рук дело. Так и запомните.
Леса в Мухурских горах такие — сотня абрагов укроется, и знать друг о друге не будут. Уходить нам оттуда ни к чему. И Дата Туташхиа не уходил — было у него какое-то дело. Может быть, ждал кого?* Мы редко попадались друг другу на глаза, да и то издали. Так и жили.
Быть абрагом, даже если нет на тебя облавы и место приглядел такое, что тебя не достать, все равно трудно. Убивает безделье. Сил нет, как оно осточертевает… Вот от этого абраг другой раз и теряет осторожность и попадает в капкан. Моим двоюродным братьям было полегче — все-таки взрослые. А как мне, мальчишке, усидеть на одном месте? Я и мотался туда-сюда. Все горы и скалы облазил, все леса прочесал. Деревья, овражки, пещеры — наизусть знал.
Была там одна полянка. Вокруг холмы. Тихое-претихое было место. На полянке стоял когда-то дом, и жил в этом доме человек по имени Буху. Рассказывали, убил он брата. Случайно. Как получилось, и сам не знал. Вернулся после тюрьмы, в деревне жить не стал, а облюбовал эту одинокую поляну и поселился здесь до конца своих дней. От дома следов не осталось, а место с тех пор так и зовется — поляной Буху. Вода была далеко, и Буху вырыл колодец. Над колодцем поставил хибарку, входи — кому надо, двери не было. Колодец был очень глубокий. Крикнешь в него и долго ждешь, пока эхо назад вернется. Когда ноги приносили меня в эти места, я непременно спускался к колодцу и подолгу сидел, представляя, какое у Буху было здесь житье-бытье. Надоест думать — покричу в колодец, послушаю эхо. Вот и забава. Но не думайте, что я лазал по горам и лесам совсем уж без оглядки и опаски. Да и братья мне не позволили б. До ближайшей деревни было отсюда верст пятнадцать — двадцать. Сюда никто не поднимался, место славилось безлюдьем. Наблюдать и примечать я научился быстро — у ребят живая память. Примятая трава, сломанный сук, сдвинутый камень — все я замечал.
Спустился я однажды к поляне Буху, остановился на расстоянии выстрела, оглядел все вокруг — вроде ничего подозрительного, еще пониже спустился, и вижу, под орехом человек сидит. Дуло ружья — прямо на меня. И глядит в упор. Я его узнал. Это был Дата Туташхиа.
— Здравствуйте, дядя Дата!
— Здорово, абраг! — ответил он весело. — Иди-ка сюда, только обойди колодец сзади.
Я подошел, мы потолковали о том о сем, он расспросил меня о братьях, и разговор вроде бы увял…
— Дядя Дата, почему вы велели мне обойти колодец? — решился спросить я.
— Я третий день тебя здесь поджидаю. Ты ведь любишь кричать в колодец?
— Люблю. Ну и что?
— А то, что теперь в эту хибару хода нет, — Дата глядел на меня по-прежнему весело.
«Что-то он скрывает от меня», — растерялся я.
— Раз вы сказали — не ходи, я, конечно, не пойду. О чем тут говорить, дядя Дата…
— Не в том дело. Пойти-то пойдем, только осторожно. Ты ступай позади меня.
Так и сделали. Дата Туташхиа подошел к хибарке с задней стены. Хибарка была из клепки. Каждая клепка — аршина три в длину, толщиной в два пальца и шириной — в пядь. Он раздвинул клепку, влез в хибару, я — за ним. Колодец был обложен камнем, примерно по пояс взрослому. Мы опустились на корточки, и когда глаза привыкли к темноте, Дата Туташхиа спросил:
— Точи-браток, видишь в камнях рукоятку маузера?
— Вижу.
— Дуло его как раз против входа, сверху маузер и не увидишь, камнями прикрыт…
Меня и сейчас в пот бросает, как это вспомню, а каково было мальчишке? Сердечко колотилось, как пойманная птаха. И ведь как придумано: войдет человек, переступит порог, еще шаг — и нога точнехонько у камня, за которым маузер. Выстрел — и какого ты ни будь роста, от ширинки до глотки — куда-нибудь пуля да попадет, это уж точно.
— А теперь послушай! Видишь веревку — перережь ее осторожно, очень осторожно. Только режь самым острым ножом — тогда не опасно. И режь вот отсюда — от задней стены. Если и выстрелит — пуля пойдет в направлении входа, ты же будешь как раз напротив. Потом разберешь камни вот здесь и вместо пули получишь маузер. А теперь пошли.
Мы вылезли наружу.
— Дядя Дата, это для нас готовили?
— Думаю, для тебя. Эта штука не для бывалого абрага. Бывалый абраг в таком тихом месте через дверь не пойдет. Тот, кто поставил капкан, знал, что ты любишь приходить сюда и входишь без опаски.
— Значит, хотели убить меня?
— Думаю, тебя. — И немного погодя Дата Туташхиа сказал — Точи-браток, если кто тебя ударит без причины, а ты ему не ответишь, он пойдет своей дорогой и непременно пожалеет о своем поступке: врагом твоим этот человек не станет — помни это. Но если и ты его ударишь — он уже враг тебе. Ты оттого попал в абраги, что дал сдачи тому, кто ударил тебя без всякой причины. Он и стал твоим врагом. Власть и закон — твои враги. Поразмысли как следует, откуда взялась эта ловушка с маузером, и тогда поймешь, кто твой враг. Понял ты меня?