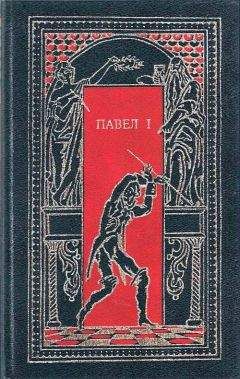Князь Платон и граф Николай Зубовы, Бенигсен и большая часть заговорщиков должны были ехать в английский клуб и стать во главе батальона преображенцев генерала Талызина. Именно заговорщикам второй колонны предстояло пройти по потайным лестницам, чтобы арестовать императора в его спальне, отвезти в крепость и там предложить ему подписать акт отречения от престола.
Большая часть заговорщиков вполне оправдывала мнение о них Палена и Бенигсена как о «ватаге вертопрахов». Уже то умственное напряжение, которого потребовали речи Зубова и Талызина, их утомило, и они спешили в непринужденной болтовне, остротах и каламбурах вылить свое мозговое раздражение. Наиболее серьезные и дельные из заговорщиков отбыли с Талызиным и Депрерадовичем, чтобы вести солдат к замку. Эти почти не пили за ужином и были в суровом, твердом и мужественном настроении. Им было поручено расставить внешние и внутренние караульные пикеты. Совершенно трезвы были и солдаты.
Но оставшиеся еще в пиршественной зале про являли крайнее легкомыслие. Под влиянием винных паров предприятие им казалось весьма легким и удобоисполнимым. Одни с хохотом и остротами помогали переодеваться князю Платону, напевая
Le nom de patrie
Fait battre mon coeur!
Mon áme est romplie
D'une sainte ardeur.[32]
Им представлялось, что они «освободители», как они себя именовали, разыгрывают Вольтерова «Брута» или «Смерть Цезаря». Кавалергардский подпоручик с жестикулировкой российского императора воображал, что он Брут, «républicain farouche», «cruel citoyenn» — Brutus — «се puissant génié, ce héros armé contre la tyrannie»[33].
И он напыщенно декламировал александрины Вольтера:
Toujours indépendant, et toujours citoyen,
Mon devoir me suffit, tout le reste n'est rien
Aller, ne songer plus qu'a sortir d'esclavage![34]
И полковник князь Яшвиль, желая высказать начитанность и знакомство с Вольтеровой трагедией, закатывая глаза, подавал реплику кавалергардскому подпоручику:
О mánes de Caton, soutenez ma vertu![35]
— Вы, молодые люди, еще неопытны суть, — вдруг резким, неприятным голосом сказал генерал Бенигсен, поднимаясь и выпрямившись. Старческой слабости, с которой он до сих пор, улыбаясь уксусной улыбкой, присутствовал на ужине и при начавшемся разъезде, как не бывало. Глаза его горели зловещим огнем под косматыми бровями, и весь он напоминал огромную ночную хищную птицу.
— Вы суть неопытные и полагаете, что низложить императора России — то же самое, что играть на сцене трагедию. Есть небольшая разница!
— Если вы так опытны в этих делах, — закричал князь Яшвиль, — то и ведите нас, генерал!
— Вперед! Не о чем более размышлять! — устремляясь вон, закричал кавалергардский полковник граф Голенищев-Кутузов. — Но благодарен подпоручику, воодушевляющему нас благородными строфами великого фернейского старца! — И, обращаясь к нему, граф Голенищев-Кутузов продекламировал слова Кассия:
Jurons d'exterminer
Quiconque ainsi que lui prétendra gouverner;
Fussent nos propres fils, nos fréres, ou nos péres,
S'ils sont tyrans, Brutus, ils sont pos adversaires!
Un vrai républicain n'a pour pére et pour fils
Que la vertu, les dieux, les tois et son pays.[36]
Брут и Кассий из Кавалергардского собственного государыни императрицы полка пожали крепко друг другу руки.
Наши сестры — сабли, сабли востры!
Вот и наши сестры!
— затянул кто-то из гвардейцев, выходя на лестницу.
Наши жены — ружья заряжены!
Вот и наши жены!
— подхватили хором заговорщики.
Внизу в большие сани с богатым ковром садился граф Пален. Два полицейских чиновника — итальянец Морелли и француз по фамилии Тиран из войск Конде — садились с ним.
— Тиран едет низлагать тирана! — скаламбурил кто-то.
Пьяный хохот был ответом на плоскую остроту.
Гвардейцы садились на своих рысаков, обмениваясь французскими фразами, как будто на обыкновенном разъезде с товарищеской попойки.
— Выпив шампанского, приятно проехаться для освежения за город! — острили они, намекая на то, что Михайловский замок объявлен был императором «загородным».
По прибытии к семеновцам и преображенцам, Пален и Бенигсен должны были начать движение одновременно, за полчаса до полуночи.
Еще с девяти часов вечера по регламенту столица погружалась в глубокий мрак, так как все ставни в домах наглухо запирались и в окнах не было видно ни одной свечки. Спали обыватели или бодрствовали? Это невозможно было узнать, так тщательно запирались ворота, калитки, двери и окна. Немногие уличные фонари, раскачиваемые на цепях пронзительным, ледяным ветром, уныло скрипели, и слабый свет сальных плошек, в них горевших, тонул во мраке облачной, безлунной ночи. Концы улиц, запертые рогатками, охранялись караульными. Разъезжавшие патрули опрашивали всякого, кого только самонужнейшая причина выгоняла из дому Малейшего сомнения было достаточно, чтобы несчастливца отправляли на гауптвахту. Беспрепятственно пропускались только доктора, повивальные бабки, гробовщики, попы, городские фурлейты (императорским указом переименованные так из «фурманов») и профосы. Казалось, то был город в неприятельской осаде.
В эту мартовскую ненастную ночь, в безмолвии темного казавшегося вымершим города раздавался только свист бурного ветра, лай и вой псов, в то время неизменно имевшихся на каждом дворе, и протяжные окрики часовых.
Разделив семеновцев на несколько пикетов и вручив команду ими прибывшим с Депрерадовичем офицерам, Пален скорым шагом повел людей к воротам на главной аллее замка.
У ворот их встретил брат полкового адъютанта императора. Сам Аргамаков стоял в это время у пешеходного мостика на рву против Летнего сада и встречал там вторую колонну заговорщиков с преображенцами, которую вели Бенигсен и Талызин.
Прибывшие вслед за Паленом заговорщики составляли как бы штаб его и шли отдельной бандой вслед за ним.
Аргамаков спросил пароль и лозунг.
— Граф Пален! Золотой овен!
Ворота отворились. Отряд за отрядом вступали в темную, осененную старыми деревьями аллею Много видели это деревья! Они видели царевича Алексея Петровича, в кандалах вывозимого в крепость! Они видели старого, больного Остермана, несомого на креслах к умирающей императрице Анне Ивановне! Они видели герцога Бирона, Анну Леопольдовну, сопровождающую младенца-императора Иоанна Антоновича, Елизавету Петровну, графа Панина с маленьким Павлом Петровичем на руках, поспешающего в Зимний, где уже присягали его матери Екатерине. Теперь черные гиганты, скрипя, сшибаясь ветвями, раскачиваемые бурными порывами ветра, осеняли таинственные ряды солдат, тяжкий шаг которых, глухо отзывался на промерзлом грунте, в ночном безмолвии и мраке стремившихся к мрачной глыбе замка несчастного властителя.
Вдруг над Летним садом с криком поднялась туча бесчисленных ворон и галок, обычно там ночевавших.
Птицы носились над замком и неистово кричали. Взметнулись и вороны, спавшие на аллеях и боковых садах.
— Преображенцы с той стороны идут, — заметил один из гренадер. — Возбудили воронье!
— Дурная это примета! — заметил другой.
И опять молча продолжали путь.
Молодой офицер, ведший отряд последним в хвосте колонны, невольно вспомнил капитолийских гусей, криком предупредивших ночной приступ врагов, пробудивших сторожей и спасших Рим Что как и крики ворон пробудят императора и предупредят его об опасности? Раздраженные нервы молодого человека не вынесли этого таинственного и безмолвного шествия на опаснейшее предприятие. К тому же угрюмый вид молчаливых солдат внушал ему опасения, что они сомневаются в целях предприятия.
— Дурная ли примета, или нет, — сказал он, — а идти надо и все исполнить до конца. Наше дело, ребята, правое! Отечество требует, и мы должны идти!.. Император болен и не может править государством. Поступки его стали неладные, и цесаревич принужден взять в свои руки правление. При Александре всем будет свобода. Это — ангел. Вы его знаете, ребята.
И, полагая, что солдаты лучше поймут его, если он станет говорить с точки зрения материальных интересов, офицер стал объяснять солдатам, что император объявил войну Англии и запретил с ней торговать. «А разрыв с Англией наносит неизъяснимый вред нашей заграничной торговле. Англия снабжала нас произведениями мануфактурными и колониальными за сырые произведения нашей почвы. Эта торговля открывала единственные пути, которыми в Россию притекало все для нас необходимое. Дворянство было обеспечено в верном получении доходов со своих поместий, отпуская за море хлеб, корабельный лес, мачты, сало, пеньку, лен. Теперь это все на руках останется. А купцы без товаров. Сие грозит разорением государству. Александр отменит все сие, ребята».