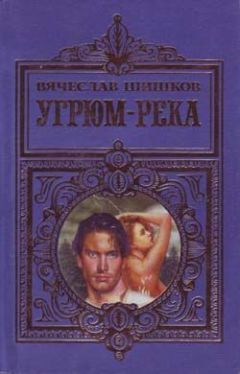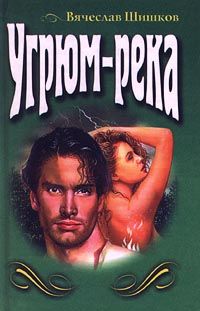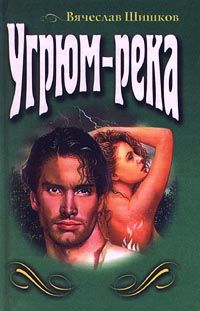Тунгусы оглянулись на голос вошедшего в храм священника, кадило из рук Сенкичи упало. Мужчины со страху надели шапки.
– Как вы проникли в Божий дом! Через алтарь! Нечестивые, вы осквернили церковь, опоганили...
– Какой опоганили, что ты? Врал твоя! – сказал Сенкича. – Это дым... вон от этинькой махалки... Что ты, батька, отец Лександра, священник-поп.
Батюшка горько улыбнулся, всех благословил и, крестясь, стал благоговейно закрывать царские врата.
– Вот жертва Миколе, вот жертва тебе. – И Сенкича встряхнул ногой лежавшие на амвоне шкурки.
– Неразумный! – с ласковой укоризной сказал священник. – Ежели это жертва мне, отнеси ее в мой дом.
– Нет, – отрицательно потряс Сенкича головой. – Нет, батюшка-отец-священник-поп. Мы притащили жертва Богу, мы сказали ему: «Это отдавай, Бог, батюшке-попу». Вот, батька, бери от Бога сам, а мы тебе не тащим. Пускай Бог подаст тебе... Мы – не надо.
Эта простая мудрость тронула священника. Он улыбнулся и сказал:
– Ах, какие вы чистые сердцем дети! Но, милый мой... Ведь вот русский, когда мне надо кушать, приносит пищу ко мне в дом. Например, вышло у моей коровушки сено, – хозяйка Громова прислала целый воз. А по-вашему, что же? По-вашему, и воз сена нужно сюда тащить, в церковь, Богу. А уж Бог мне даст, и я должен буду отсюда везти на себе домой. Так, что ли?
– Так, так, – закивали тунгусы. – Правильно твоя-моя толкует... Шибко ладно.
– Да ведь воз-то не пролезет в дверь! – воскликнул священник, крепясь от смеха.
– Пошто не пролезет, – сказал Сенкича, вынимая трубку и кисет. – Делай самый большущий дверь, пропрут. Хошь кого пропрут... Верно!
Отец Александр громко засмеялся, всплеснул по-молодому, как крыльями, руками и обнял старика.
– Добрый ты, умный ты, хороший ты... Ах! Что ж вы в шапках, снимите скорей шапки, грех – в шапках!
Все обнажили головы – грех так грех, – Сенкича тоже снял шапку, вставил трубку в зубы и чиркнул спичку.
– Что ты! – притопнул ногой священник.
– Ково? – недоумевал тунгус.
– Эвот ково, – подвернулся Васька; он вырвал из зубов Сенкичи трубку и швырнул.
– Тьфу ты! – плюнул растерявшийся Сенкича. – Забыл совсем маленько.
Священник поговорил с ними, опять благословил, вывел из церкви и пошел к Громовым. Он всю дорогу улыбался и с улыбкой сел за званый стол.
– Представьте, какое странное событие, – начал он. – Представьте, открываю церковь – и что ж я вижу? С десяток тунгусов, этих удивительных, чистых сердцем детей природы.
Его рассказ был выслушан внимательно и весело. Задорней всех смеялся Иннокентий Филатыч, хотя этому очень мешали ему только что вставленные дантистом челюсти с зубами. Видимо, недавно приехавший дантист был не из важных: зубы получились лошадиного размера, они выпирали вперед, и новый их владетель никак не мог сомкнуть губ. Лицо его стало удлиненным, карикатурным, неузнаваемым. И выговор был косноязычен, неприятно смешон.
– То есть прямо беда! Либо зубы подпилить надо на вершок, либо губы надставить, – посмеивался Иннокентий Филатыч над собою. А когда он надкусил пирог с морковью, верхняя челюсть застряла в пироге и упала на пол.
Катерина Львовна, Кэтти, молодая, кончившая институт учительница, схватилась за Нину Яковлевну и откровенно захохотала.
Отец Александр нарочито сугубо углубился в поглощение ухи. Иннокентий же Филатыч нагнулся, закряхтел и, купая бороду в ухе, ошаривал под ногами.
– Вот она, окаянная, вот, – шамкал он. – Правильно сказано: «Зубы грешников сокрушу...» Ох, грехи, грехи!.. – Он отвернулся, как тигр, разинул пасть и благополучно вставил челюсть.
– Так вот я и говорю, – продолжал священник. – Какая высокая мудрость, какая глубина понятия у этих дикарей, стоящих на грани человека и животного!..
Отец Александр любил строить свою речь точно, округленно, как по книге. Природный пафос нередко звучал в его словах даже в обычном разговоре. Это давало ему повод считать себя «милостью Божией» оратором, и он гордился своим даром говорить. Он имел привычку засовывать руки в рукава рясы, откидывать прямой свой корпус и щурить на слушателей серые, умные, в рыжеватых ресницах глаза. Со всеми он говорил хотя и искренне, но с чувством явного своего превосходства. В разговоре же с инженером Протасовым – с этим вольтерьянцем, социалистом и безбожником – он всегда робел.
– Вы только представьте: они, эти тунгусы, не желают давать мне свою помощь в руки, чтоб этим не оскорбить меня. Они дают не человеку, а Богу, человек же должен их жертву взять у Бога, чтобы чувствовать благодарность одновременно и к Господу и к человеку. Тонко? – И он обвел всех прищуренными глазами. – Не то у нас, у русских. Вот пойдет священник по приходу с святым крестом, и суют ему бабы пятаки. Ведь больно, ведь стыдно, ведь руку жгут огнем эти деньги! А священник – человек: есть, пить хочет.
– Ну, уж кому-кому, а вам-то, батюшка, жаловаться грех... – простучал зубами Иннокентий Филатыч.
– Я и не жалуюсь, я и не жалуюсь, – смиренно ответил священник и принял на тарелку вторую долю пирога.
– А я знаю, о ком вы скучаете, барышня, – подмигнул Иннокентий Филатыч учительнице.
– О ком же?
– Об Андрее Андреиче, наверно-с, о господине Протасове-с.
Катерина Львовна вспыхнула, пожала плечами и скользом взглянула на хозяйку.
– Нисколько... С чего вы взяли?
– Женишок-с...
Хозяйка тоже чуть покосилась на девушку.
– Не зевайте, барышня! Лучшего супруга не найти! – воскликнул Иннокентий Филатыч с таким ражем и так встряхнул бородатой головой, что верхняя его челюсть снова попыталась выскочить, но он ловко подхватил ее рукой. – Харрош женишок, хорош женишок! – не унимался веселый старец.
– Нельзя ли другую тему, – дрогнула голосом хозяйка и резко постучала в тарелку ножом: – Настя, утку!
Отец Александр пристально взглянул в лицо хозяйки. Лицо ее по-прежнему приветливо, как будто и бесстрастно, но в глазах досадная тревога, скорбь. Катерина Львовна почувствовала неловкость, оборвала улыбку; она в смущении глядела вниз, кончики ушей горели.
Чтоб прервать молчание, отец Александр сказал:
– Приглашаю вас всех завтра в полдень на мою беседу с тунгусами. Тема – первоначальное понятие о Боге. Помимо всего прочего, будет интересно и в этнографическом отношении... Для вас в особенности, Катерина Львовна... Вы никогда не видали тунгусов?
– Андрей Андреич пришли! – крикнула Настя и поставила на стол блюдо с уткой.
Обе женщины враз вынули пуховочки и трепетными пальцами стали оправлять прически.
Филька Шкворень переночевал в тайге, у костра, с рабочими. Утром выкупался, высушил на солнышке дырявые онучи и пошагал в громовский поселок. Хозяйка харчевни сварила ему щей, он наелся, спросил, как пройти на резиденцию, в контору, взвалил на спину кожаную торбу и пошел.
Солнышко катилось к вечеру. Бродягу на улице догнала цыганка.
– Стой, счастливый!
На ее лицо низко приспущена зеленая, в разводах шаль, глаз не видно. Старая или молодая – не понять. Юбчонка грязная, ноги босы, но белы, как булки.
– Филипп Шкворень – ты?
– Я.
– Вот от хозяина письмо... Отойдем в проулок, не ори...
– От какого хозяина?
– От Громова, Прохора Петровича.
– Я неграмотный. Читай!
Цыганка вскрыла розовый с голубым ободком конверт, вынула письмо, освободила глаза от шали – лицо молодое, смуглое, серьги звякнули в ушах.
– Вот слушай, добрый человек, удалец счастливый.
Сели на завалинку. Цыганка шепотком прочла:
«В контору не заходи. Иди с цыганкой к кривой сосне, она сведет тебя. Приду лично, как стемнеет».
Цыганка поглядела на этого страшного человека, помолчала.
– А ты кто сама-то?
– Я цыганка, на посылках у него. Верная слуга его. Верней меня нет на свете.
– Как же он, чертова ноздря, говорил – в контору... Распроязви его, черта, дурака...
– Остынь, счастливый, не серчай... Золото хозяину запрещено принимать в открытую. Идем.
Зверючья таежная тропинка завела их в глушь.
Бродяга впереди, цыганка сзади. Темновато было.
– А вдруг я зарежу тебя... Неужели не боишься?
– Нет, счастливый, не боюсь. Я завороженная...
– Я вот такую же, как ты, лонись[5] зарезал. Золото пытала слямзить... Ну, я ей вот этот самый ножичек в горло и... тово... Язви ее!..
– А вот и сосна заповедная, – сказала цыганка, прислушалась: тихо, глухо, тайга прощалась маковкой с закатным солнцем. Внизу, меж стволами, прохладные вставали сумерки.
Упругий седоватый мох распластался по земле, как одеяло. Прогалысинка шагов двадцать в поперечнике, посередине – кривая, о трех стволах, сосна. Она мертва – ее убила молния: небесный меч огня ссек кудрявую верхушку, расщепил, обжег стволы и развеял лучину во все стороны.
– Вот тут... – Цыганка села в моховой ковер.
Бродяга постоял, подумал, осмотрелся и тоже сел, сказав:
– Нет, ты, язви тебя, отчаянная. А как я, по силе возможности, учну целовать тебя да приголубливать?